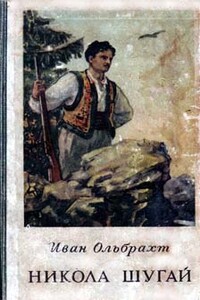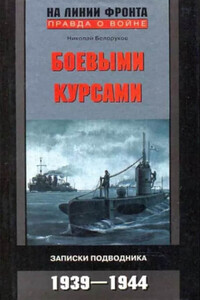Избранное | страница 73
Знаете, я всегда был хорошим товарищем, никогда не лез вперед, потому-то мне совсем не по нутру, что вы тут запустили музыку и осыпаете мой гроб цветами только за то, что я умер, а они живы. Я тут ни при чем. Да и со Зборовом все было вовсе не так, как вы думаете.
До того как была создана чешская армия и мы пошли воевать, нас уверяли, что ежели мы победим, то избавимся от Вены, Рима, капиталистов и дворян, заведем у себя демократию, национализируем помещичьи имения и тяжелую промышленность и заживем неплохо, потому что страна наша богата и обильна и «наша программа — Табор»{87}. Среди нас не нашлось никого, кто бы этому не поверил, а ежели бы кто и усомнился, то мы бы приняли его за австрийского шпиона и набили ему морду. А теперь, скажите на милость, кто ради всего этого не пошел бы драться с винтовкой в руках, будь он даже трус?
Восемь лет нас мучил окружной начальник Корбел. Во время забастовок он насылал жандармов, разгонял собрания, сажал в тюрьмы наших ораторов и разносчиков газет, всячески над нами измывался и преследовал нас. Пятнадцать лет над нами мудровал его верный сподручный священник Коуделка. Он забивал вздором головы нашим детям и совращал женщин, доносил на нас за всякие «кощунства против религии и оскорбления величества», выискивал среди нас штрейкбрехеров и провокаторов. А директор Горовиц пил нашу кровь. И как! Пар у него изо рта валил! Он высасывал ее всю до капли и доводил наших малокровных девчонок с синими подглазинами до кладбища, а старых прядильщиков с распухшими ногами — до сумы. И когда я воображал, что наступит время и мы всех троих возьмем за шиворот, вытряхнем из мягких кресел и пошлем на фабрику честно зарабатывать свой хлеб, а фабрика станет нашей, что придет конец чахотке и нищете, и моя семья выберется, наконец, из гнилого подвала, где померли от рахита три мои сестренки, и что моя шестидесятипятилетняя, изувеченная ревматизмом мать бросит стирать барское белье, — так у меня, черт побери, ружье само стреляло и я готов был драться с самим дьяволом! Когда в тот раз у Зборова началось дело, то, поверьте, у меня было точь-в-точь такое же чувство, как в те времена, когда мы с рабочей депутацией подходили к конторе директора Горовица, чтобы сказать ему: «Объявляй прибавку, не то остановим машины!» Ну вот! А когда мы брали первый окоп, то я поймал брюхом две пули. Это довольно-таки противно! Вдруг, понимаете ли, запнешься, бежать дальше не можешь и не знаешь, что это с тобой стряслось. А потом — бух на землю! Ну, тут уж я смекнул, в чем дело. Чертыхнулся, вспомнил мать, Франтину, брата с детьми, малость еще был в сознании… Вот и все. Даже не знаю, где мне довелось умереть героем за отечество: там, на месте, или в госпитале. Да что об этом говорить — дело прошлое! А в общем-то, мне все это куда милее, чем у Масарикова вокзала начищать сапоги господам Корбелу, Коуделке и Горовицу. Так вот я и говорю: тут ошибка, я не какой-то там «неизвестный» и «безыменный». Все было, как я вам рассказал.