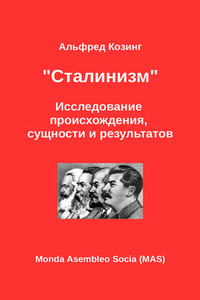Восхождение и гибель реального социализма. К 100-летию Октябрьской революции | страница 18
Это верно и в отношении работ Розы Люксембург[24], которая на основе своего знакомства как с русско-польскими, так и с германскими условиями пришла к самостоятельным взглядам в особенности на стратегию и тактику польской борьбы, отличавшимся от взглядов Каутского, а отчасти и Ленина. Далее, это верно и в отношении работ Антонио Грамши[25], изучившего опыт русской и других революций, но в то же время опиравшегося на прогрессивные традиции итальянской духовной жизни. Точно так же и работы выдающегося марксистского теоретика Георга Лукача[26] демонстрируют несомненную специфику, которая — в основном в его ранних произведениях — отражает гигантское влияние Октябрьской революции на прогрессивную мысль в Европе и в то же время индивидуальную эволюцию Лукача от идеалистической позиции, ориентирующейся на Гегеля, к марксизму.
При этом речь вовсе не идёт о различных марксизмах (например, немецком, русском, итальянском или австрийском), поскольку эти различные формы опираются на базовые воззрения и принципы марксизма, применяют их к новым областям знания и общественной практики и тем самым обогащают его содержание и его теоретический инструментарий. Марксизм не распадается из-за этого на самостоятельные отдельные марксизмы, а развивается как теоретическое единство в своём многообразии, поэтому было бы совершенно неверно объявлять какую-либо из этих форм единственно верной и таким образом создавать догму.
После Октябрьской революции влияние марксизма на духовную жизнь Европы было чрезвычайно велико, в особенности в гуманитарных науках. Основные взгляды Маркса были более или менее переняты учёными в областях историографии, экономики, философии, социологии — отчасти скрыто, отчасти открыто, так что вокруг марксизма возникли различные тенденции, близкие к нему, частично совпадавшие с ним, однако в важных аспектах и отличавшиеся от него. Это можно сказать, например, о «философии надежды» Эрнста Блоха, как бы включившего марксизм в своё мышление, но чья указанная телеологическая метафизическая система с марксизмом не совпадает. Это можно сказать и о социологии знания Карла Мангейма и его последователей, которые используют основные марксистские взгляды, но в различных отношениях чрезвычайно упрощают их. Или о «критической теории» Франкфуртской школы, которая по большей части совпадает с марксистскими взглядами, использует их, при этом в важных и главных вопросах и практических следствиях всё же расходясь с марксизмом.