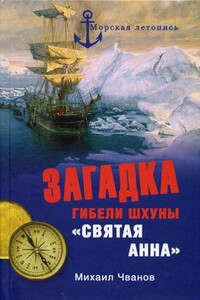Загадка штурмана Альбанова | страница 34
На что же он все-таки надеялся?
Только на самого себя. Вы прочитали его «Записки...» — скорее всего взахлеб — что же будет дальше?
Прочтите их еще раз — не торопясь, вдумчиво. Проследите за его спокойными и, может быть, даже с первого взгляда холодными мыслями. Его ничто не может заставить хоть на мгновение потерять самообладание. Его мужеству можно удивляться снова и снова. Откуда это — непоколебимое, что бы ни случилось, — спокойствие духа?
Его «Записки...» потрясают прежде всего простотой, чувством меры, которого порой не хватает и маститым литераторам, в них нет и тени трагического нагнетания. Но литературный талант талантом, он несомненен (вспомните его «тройку» по русскому языку), главное в другом — их мог написать только человек очень мужественный, и не просто мужественный, а даже не подозревающий в себе этого качества, точнее, считающий его само собой разумеющейся чертой каждого, берущего на себя право называться мужчиной.
Нельзя без содрогания читать строки из дневника Альбанова о смерти Нильсена. Они потрясают прежде всего опять-таки своей мужественной простотой:
«К этой могиле был подвезен Нильсен на нарте, и в ней его похоронили, наложив сверху холм из камней. Никто из нас не поплакал над этой одинокой, далекой могилой, мы как-то отупели, зачерствели. Смерть этого человека не очень поразила нас, как будто произошло самое обычное дело. Только как-то странно было: вот человек шел вместе с нами три месяца, терпел, выбивался из сил, и вот он ушел уже... ему больше никуда не надо... вся работа, все труды и лишения пошли насмарку. А нам еще надо добраться вон до того острова, до которого целых 12 миль. И казалось, что эти 12 миль такое большое расстояние, так труден путь до этого острова, что Нильсен просто не захотел идти дальше и выбрал более легкое. Но эти мысли только промелькнули как-то в голове; повторяю, что смерть нашего товарища не поразила нас. Конечно, это не было черствостью, бессердечием. Это было ненормальное отупение перед лицом смерти, которая у всех нас стояла за плечами. Как будто и враждебно поглядывали теперь мы на следующего «кандидата», на Шпаковского, мысленно гадая, «дойдет он или уйдет ранее». Один из спутников даже как бы со злости прикрикнул на него: «Ну, чего ты сидишь, мокрая курица! За Нильсеном, что ли, захотел! Иди, ищи плавник, шевелись!» Когда Шпаковский покорно пошел, по временам запинаясь, то ему еще вдогонку закричал: «Запинайся ты у меня, запинайся!» Это не было враждебностью к Шпаковскому, который никому ничего плохого не сделал. Не важен был теперь и плавник. Это было озлобление более здорового человека против болезни, забирающей товарища, призыв бороться со смертью до конца».