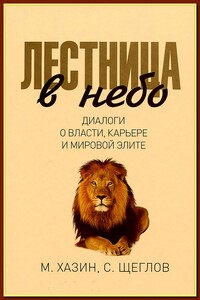Монголы | страница 69
Таким образом, благодаря топонимическим данным устанавливается первоначальный ареал формирования носителей алтайских (монгольских и тюркских) языков в Центральной Азии. Топонимика Северо-Восточного Китая дает частично ареал тунгусо-маньчжурский в сочетании с более поздним китайским, а частично, в западной части, ареал монгольский (например, Улан-Хото — Красный город, Халун-Аршань — Горячий целебный источник, Шара-Мурэн — Желтая река, р. Чол — Пустыня, Далай-Нур — Море-озеро и др.). Вместе с тем в Северной Монголии наряду с собственно монгольскими сохранились некоторые гидронимы, свидетельствующие о когда-то жившем там населении тунгусской языковой принадлежности. Например, р. Селенга, которую под этим названием упоминают китайокие источники в I тысячелетии н. э., значит Железная река (от тунгусского слова «сэлэ»— «железо»).
Приведенные примеры, количество которых можно было бы увеличить, четко указывают на то, что зоной формирования монгольских народов были степные и лесостепные районы Центральной и Восточной Монголии, что протомонгольские племена селились в прихинганских районах Маньчжурии и вообще располагались значительно южнее районов современного расселения.
Б. Я. Владимирцовым было установлено, что многие из топонимических названий, упоминаемых в древнетюркоких текстах VIII в. н. э., бытуют в Монголии и в XX в. [Владимирцов, 1929, с. 169—174], т. е. обнаруживают ту же устойчивую традицию, что и базовая лексика.
Топонимические данные хорошо согласуются с данными Сыма Цяня, отразившего в своем сочинении основную тенденцию в отношениях между предками китайцев, формировавшимися в долине Хуанхэ, и «варварскими племенами» — северными соседями. Постепенно, освоив мягкие плодородные лессовые почвы речной долины, китайцы стали оттеснять «варваров», кочевников, к северу [Таскин, 1968, с. 10—11]. В надписях на иньских гадательных костях (ок. 1500 лет до н. э.) южные пределы земель, занимаемых этими чуждыми Китаю племенами, охватывали районы современных городов Баотоу, Ордос, часть пров. Шэньси и ее стык с Нинся и Суйюань [Позднеев, 1899; Таскин, 1968, с. 6—7].
Эти данные письменных китайских источников также подтверждают, что в Центральной Азии уже в те далекие времена должна была господствовать некитайская топонимика. Интересен сам характер сохранившихся перечисленных выше топонимических названий: они сугубо конкретны и описательны, отмечают особенности и свойства воды, земли, почв, минералов, имеющие хозяйственное значение или служащие ориентиром. Семантика их и теперь ясна. Такой тип образования топонимов един для всех народов мира. Он типичен для древнейшего топонимического пласта и свидетельствует о первичности обитания на данной территории народа, оставившего такие топонимы [Попов, 1965, с. 21—23, 149—167].