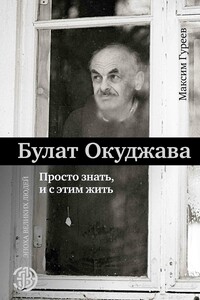Пять портретов | страница 5
Но уже в прологе что-то нарушилось, словно действие остановилось. Оказалось, что Вторая песня Баяна[13], посвящённая Пушкину, которую все ждали и которую Стасов слыхал в исполнении самого Глинки, исчезла: её перечеркнула театральная цензура. От огорчения Стасов не расслышал новое вступление хора.
И всё-таки он был счастлив. Даже мертвенная гамма, знаменующая незримое вторжение Черномора, не могла не восхитить. Этот зловещий звукоряд, лишённый мелодии, был задуман великим мелодистом не зря: будь здесь певучесть, как бы мы ощутили присутствие злой силы?
В каждой картине был свой поэтический смысл. Порой Стасову казалось, что, если закрыть глаза и не видеть декораций и костюмов, этот смысл проступит ещё яснее. Даже в танцах: они вовсе не были развлекательными вставками. Если в замке Наины порхание волшебниц было грациозно, легко и музыка говорила, что их назначение — пленять, то в царстве Черномора слово плен обретало другое значение: там были пленники, рабы. Они тоже плясали, но в их движениях, в самой музыке, особенно в неистовой лезгинке, была судорожность, смятение. Слыша приближение Руслана-избавителя, ибо уже раздался клич его боевой трубы, — пленники начинали метаться, рвать свои путы.
Так воспринимал Стасов очарованным, юношески обострённым слухом.
Всё нравилось ему, но более всего — сцена Ратмира. Не оттого ли, что Ратмир был его ровесником?
Низкие, протяжные звуки английского рожка предваряли исповедь юного хана. Они были под стать его изнеженному облику и пылкому, мечтательному нраву.
А его восхитительный романс… Нет, скорее вальс и по размеру, и по настроению. «Чудный сóн — жи-вóй люб-вú»… Конечно, вальс. Но ударения не там, где их ждёшь: такты кажутся укороченными — так и слышится перехваченное дыхание и учащённое биение сердца: «Слёзы жгут — мо-ú гла-зá…»
Стасов невольно покачивался в такт вальсу; сидевший рядом Серов незаметно ущипнул его.
Не зря говорили, что опера Глинки до спектакля подвергалась переделкам и сокращениям. Стасов и сам замечал пропуски и порой словно проваливался куда-то и опять выкарабкивался на поверхность. Но, за исключением этих минут, он слушал и смотрел удивительную сказку, где побеждало Добро.
А что делалось вокруг, как принимали оперу? Было трудно понять.
В антрактах толковали по-разному. Одни превозносили оперу, другие прямо называли её неудачной, третьи недоумевали: «Учёная музыка, ничего не поймёшь». В зрительном зале также нельзя было определить, успех или неуспех. По-видимому, и то и другое. Аплодисменты после увертюры и потом — долгое молчание. Вызовы в самом конце, и где-то впереди — заглушаемый, но отчётливый свист, даже это!