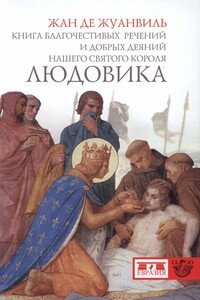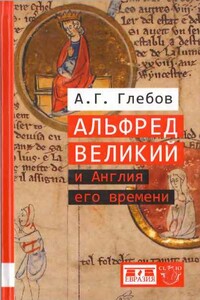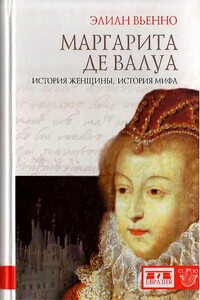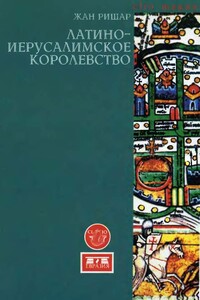Японский тиран. Новый взгляд на японского полководца Ода Нобунага | страница 31
Осенью 1568 года Нобунага начал свой поход на столицу Киото, намереваясь сделать своего протеже Ёсиаки пятнадцатым сёгуном бакуфу Мурома. Согласно сообщению Луиса Фройса, отправленному в Сакай через несколько дней после вступления Нобунага в Киото, он задействовал для этой цели «60 000 воинов»[67]. Даже принимая во внимание явную завышенное этой оценки, очевидно, что Нобунага к тому времени, как он впервые предстал в качестве военного лидера государственного масштаба, мог легко выставить армию в несколько десятков тысяч человек. И цифра эта окажется еще более поразительной, если вспомнить, что в 1551 году Нобунага начинал с отряда численностью 700–800 человек. Уже к 1560 году Нобунага сумел увеличить численность своего войска до 3000 только за счет воинов своей родной провинции Овари. Самый значительный в цифровом отношении скачок произошел в период с 1560 по 1567 год с завоеванием Мино и включением воинов этой провинции в систему вассалитета Нобунага. Благодаря этому многократному увеличению численности армии Нобунага теперь мог позволить посвятить «делам государства» (тэнка но ги) последние четырнадцать лет своей жизни.
Глава вторая
Путь на Киото
1553–1568
Практически все исследователи, писавшие о Японии XVI столетия, подчеркивали слабость императорского двора и сёгуната Муромати, являвшегося центральным военным правительством страны. Тем не менее, даже при том хаосе, что поразил страну в период Сэнгоку, столица и ее институты все еще имели определенное влияние и сохраняли привлекательность для провинциальных властителей. Существовал феномен, получивший название «Киото-ориентация» даймё эпохи Сэнгоку, его можно проследить и на примере Ода Нобунага и его клана[68]. Провинциальные властители, подобные Ода Нобунага, управляли практически автономными владениями, но при этом стремились подкрепить свою власть, основанную на военной мощи, авторитетом власти центральной. Даймё стремились повысить свой статус и тем самым создать для себя дополнительную опору в своих владениях, получая придворные ранги и должности, совершая путешествия в Киото для аудиенций у императора и сёгуна и предлагая пожертвования в императорскую и сёгунскую казну. Императорский двор и сёгунат, в свою очередь, использовали свою номинальную власть и авторитет для того, чтобы вступать в союзы с даймё в надежде повысить политический вес и улучшить финансовое состояние. Короче говоря, императорский двор и сёгунат могли не иметь реальной власти, но значения своего они никогда не теряли.