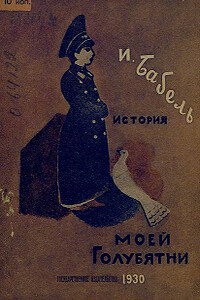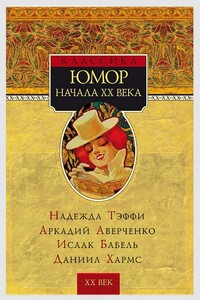Круг. Альманах артели писателей, книга 3 | страница 26
Поэт побледнел от страха. Тут он прибег для успокоения Молчальника к самому героическому средству, к которому он намеревался обратиться лишь в случае действительного привлечения к суду.
— Такая же шуба есть у одного продкомовского служащего. А он раньше приставом был. Все изображенное не может относиться к кому-нибудь другому, например, к вам, потому что театр революционного юмора не может и не смеет осмеивать таких почетных деятелей, как вы.
Молчальник увидел, как ловко выскользнул из опасного положения поэт, и как опростоволосился он сам. Он только плюнул и отошел прочь. Но чувство неприязни, даже ненависти у него осталось. Теперь он необыкновенно обрадовался предложению Лбова.
— Этакого человека, — отчеканил он твердо, — надо бы из пределов уезда выслать.
— Вот это хорошо, — поддержал на этот раз и Секциев. — А то на следующий раз он собирается высмеять наш марксистский кружок. Ведь Маркс — это святыня. А мы изучаем Маркса. Как же можно смеяться над нашим кружком?
Здесь Секциев немного соврал или, как принято выражаться, ошибся. Кружок Маркса еще не изучал. Было всего два кружковых собрания. Одно было организационное: на нем только распределили между пятью членами кружка административные должности — председателя, двух товарищей председателя и двух секретарей. Один из членов напомнил было, что, например, на уездных учительских собраниях президиум состоит из 7 человек и это гораздо эффектнее, но ему резонно возразили что сейчас такой президиум неосуществим, в виду недостатка членов. Внесший предложение попросил, чтобы оно всетаки было занесено в протокол для руководства, когда количество членов кружка увеличится. На втором собрании постановили приобрести сочинения Маркса, истребовав необходимые для этого средства из отдела образования. Кроме того решили исходатайствовать небольшую субсидию для организации во время собраний товарищеского чая… Обо всем этом и стало известно теревьюму, — искоренителю всего смешного в Головотяпске.
Но теперь решена участь теревьюма и решена также и твоя участь, злосчастный поэт, заведующий отделом головотяпского смеха! Единственный заведующий, который не является с портфелем на заседания пленума и президиума и с видом государственного деятеля не извлекает оттуда бумаги, перед которым не заискивают и не подхолимничают служащие, который не шествует в первомайской процессии, подобно римскому и греческому военачальнику, впереди когорты своих подчиненных, который, чтобы «зашибить деньгу» должен головотяпскому ценителю искусства такие остроты преподносить, чтобы в нос садануло, который и теревьюм свой превратил в балаган и сам нацепил на себя костюм клоуна и в этом непотребном одеянии распевает на потеху гогочущей головотяпской толпы сочиненные им на злобу дня стишки, где, впрочем, осмеливается задевать только шубы или носы, а не их обладателей; которого за эти шубы и носы, пропущенные кстати, цензурной комиссией при отделе образования, тащат к уполномоченному политбюро, который… Но, боже мой, какая бесконечная вереница и куда она может привести! Может быть, в такие места, где смех вовсе неуместен! И зачем ты, головотяпский поэт, не ограничился тем, что читал со сцены чеховские рассказы, выражая в своем лице и пьяного рассуждающего человека и лающую на него собаку, что рассказывал анекдоты из ученической, еврейской и армянской жизни? Лбов и Молчальник смеялись тогда от души, называли тебя остроумным, рукоплескали тебе. Тебе мало этого: ты захотел быть обличителем, ты слишком высоко стал думать о теревьюме, ты стал говорить, что тебя и комиссары головотяпские побаиваются, что ты — общественная сила. Так выпей же до дна чашу, которую преподнесут тебе Лбов и Молчальник — ты ее заслужил!