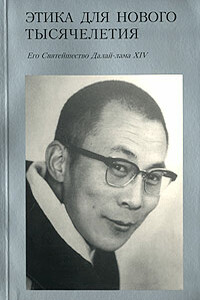Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа | страница 108
Разумеется, теоретическая экзальтация в вопросе о женской эмансипации может принимать различные формы, и у некоторых французских теоретиков само понятие женщины стало выступать в качестве любой радикальной силы, подрывающей все концепции, предпосылки и структуры традиционного мужского дискурса. В этом отношении показательно их сравнение с американскими феминистками, которых, как уже отмечалось, в первую очередь интересовали (по крайней мере в 70-х годах) более практические вопросы социального и политического характера, а также специфика женского восприятия литературы, практические проблемы эмансипации литературы от доминирующей мужской психологии и борьба против мужских жизненных ценностей, которыми, — ив этом они полностью согласны со своими французскими коллегами, — целиком пропитан окружающий их мир. Более конкретно специфика их анализа заключалась в выявлении противоречий между мужским и женским прочтением литературы, в ходе которого они стремились продемонстрировать предрассудки мужской идеологии.
Женское начало против «символических структур западной мысли»
Различие между американ ской феминистской критикой и французской проявляется весьма отчетливо, если мы сравним установку Элейн Шоуолтер и Джудит Феттерли на создание специфического женского прочтения литературы и стремление Кристевой, Кофман, Иргарай и С иксу выявить женское начало как особую и фактически, по их представлению, единственную силу (в психике, биологии, истории, социологии, обществе и т. д.), которая способна разрушить, подорвать «символические структуры западной мысли». Разумеется, их всех объединяет несомненная общность социально-психологических запросов и интересов, которую лучше всего выразила Шошана Фельман, занимающая, если можно так сказать, срединную позицию: «Достаточно ли быть женщиной, чтобы говорить как женщина? Определяется ли это «говорить как женщина» неким биологическим состоянием или стратегической, теоретической позицией, анатомией или культурой?» (138, с. 3).
Юлия Кристева заявила в одном из своих интервью: «Убеждение, что «некто является женщиной», почти так же абсурдно и ретроградно, как и убеждение, что «некто является мужчиной». Я сказала «почти», потому что пока еще по-прежнему существует немало целей, которых женщина может добиться: свободы аборта и предупреждения беременности, яслей и детских садов, равенства при найме на работу и т. д. Следовательно, мы должны употреблять выражение «мы — женщины» как декларацию или лозунг о наших правах.