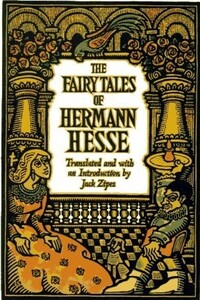Голод | страница 42
- Бедная ты моя, на себя стала непохожа.
Тотчас же бросилась к зеркалу. Совершенно белое, без кровинки лицо. Но похудела мало. Только слегка выдаются височные кости.
Потом лицо скрылось в тумане и оттого стало невыразимо жаль себя. Бедная я, бедная я, бедная я!.. Господи, наверное умру!..
Шла до трамвайной остановки и плакала. Ехала в трамвае и плакала.
25 июля.
За последнее время просыпаюсь среди ночи и часто плачу. Иногда уже и просыпаюсь с глазами, полными слез.
В такие минуты почему-то ярко припоминаются все мелочи нашей ужасной жизни. День за днем тянется вся жизнь. Бледные, худые проходят папа, мама, Боря, я сама. И на них, и на себя я гляжу будто со стороны. Сравниваю, какими мы были месяц назад и какими стали теперь. И ужас, какого уже не бывает днем, охватывает меня. Судорожно стискиваю подушку зубами и стараюсь заснуть. А сна нет и нет. В комнате темно. Слышно, как во сне вздыхает папа, мучительно застонет Боря, забормочет мама...
Потом наступает рассвет, потом день. Надо подниматься и итти на службу. Сквозь прикрытые ресницы видела, как поднимался папа. Какой он страшный в одном белье! Белая рубашка и белое, измятое со сна, лицо. Глаза впали глубоко и совершенно без всякого блеска... мертвые. Но он расстегивает ворот рубашки, снимает ее и начинает ловить вшей. Господи, совершенный скелет! Странно-белые, круглые, без мускулов, тонкие-тонкие руки. А к ним как-будто приделаны грязные и темные, широкие, как лопаты, кисти... Даже и на руки не похоже. До чего он исхудал! Хоть бы глаза закрыть! Не видеть!
А глаза не закрываются. Смотрю, как прикованная, и боюсь пошевельнуться.
Он ушел. Теперь по сонным, тихим комнатам ходит усталыми шагами мама. Она готовит кипяток. Зачем? Ведь, все равно, хлеба нет. Неужели пить пустой?
Потом потянется день, и, наконец, наступает страшный вечер. Вечер страшнее всего. В комнате тихо. Папа лежит, мама лежит, и я и Боря лежим. Электричество боимся выключить. Блестящая лампочка сияет под потолком. И знаю, каждый лежит, смотрит на эту сияющую лампочку, и о чем-то думает, и медленно умирает. Иногда зазвенит в тишине и в электрическом свете тонкий, прячущийся плач Бори. Никто не утешает. Ни у кого нет сил.
А прекратится ток, - в темноте лежать еще страшнее. Страшно оттого, что знаю: каждый лежит в своем углу и не спит. Каждый лежит в своем углу и умирает. И нет никому до другого никакого дела.
Потом появляется надежда, что, наконец, все уснули. И вдруг в тишине папин мучительный голос: