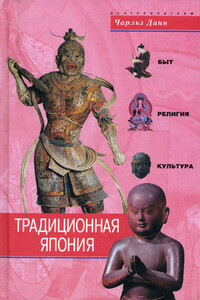Российское неоязычество. История, идея и мифы | страница 41
Наконец, само слово «христианин» прочно отождествляется со всем народом, так как от него произошло название самого многочисленного сословия — крестьянства.
Как мы видим, христианские понятия в русском языке на всем протяжении веков как в письменной, так и в устной речи весьма распространены и практически всегда употребляются в положительном смысле.
Поганые слова
А как дела обстоят с понятиями языческими? Остались ли они? Здесь все не менее интересно.
Еще во времена первых катакомбных церквей христиане, называющие себя воинами Христовыми, в качестве противопоставления стали употреблять слово «paganus» (лат. сельский, языческий), подразумевая при этом всех, кто не принадлежал к воинству Христа, то есть последователей различных политеистических религий. (В связи с чем довольно комично смотрятся неоязыческие плакаты и обложки музыкальных дисков с изображениями брутальных воинов и надписями типа «Pagan Power», «Pagan Metal War», «Pagan Front» и т.п.)
После Крещения Руси и в нашем народе многобожников стали именовать погаными. Впоследствии это слово стало ассоциироваться со всем нечистым, мерзким и вредоносным.
Именно так и стало восприниматься в народном сознании языческое многобожие. Апофеоз народного отношения к данному явлению — былинная легенда о святом Илии Муромце и его битве с идолищем поганым. И хотя неоязычники любят называть себя староверами, это наименование, согласно историческим документам, употреблялось только в отношении христиан-раскольников, не принявших реформ патриарха Никона, язычников же иначе как «погаными» летописные своды не именуют.
(Заметим еще один интересный исторический факт, связанный со старообрядческим расколом. В рамках данной работы мы не будем подробно разбирать данное событие (для более подробного знакомства с темой можно рекомендовать лекцию отца Даниила Сысоева «Старообрядческий раскол». — URL:https://www.youtube.com/watch?v=GJhBJmsTDjw ), отметим лишь, что те изменения в церковном обиходе, которые не были приняты значительной частью нашего народа, вроде двоеперстия или направления движения крестных ходов, покажутся многим нашим современникам совершенно несущественным. Однако это хорошо иллюстрирует несостоятельность тезиса неоязычников о поверхностной христианизации русского народа. Русские люди XVII века даже в малом боялись отступить от христианской традиции, хотя при этом и совершили ошибку, приняв изменение обрядовой части за изменение веры.)