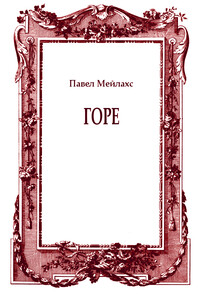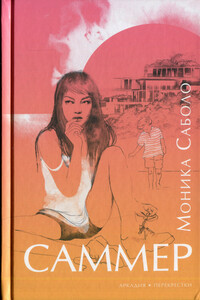Шлюха | страница 9
Она кивнула, не глядя на него. Они пошли. В комнатке была коричневая деревянная лестница, ведущая наверх. Тяжело, скрипуче поднимаясь по ней, он чуял спиной, как вслед поднимается она, но самое главное, что он чувствовал, — это катастрофически нарастающую нелепость, нет, невозможность всего происходящего. И вместе с этой невозможностью он ощущал какое-то свое глубокое несогласие с этим самым происходящим, обещающее лишь укрепиться, оформиться в нечто такое, что не в состоянии будет сдвинуть ни он сам, ни что бы то ни было вне его. Он переставлял ноги, понимая, что вечно идти они не будут, когда-нибудь и придут. И даже очень скоро. Ему становилось все более худо. Как будто его вели в морг на опознание. Опять коридор с дверями. Теперь они шли бок о бок. У одной из дверей она остановилась, и они вошли. Опять все тот же тюремно-лазаретный аскетизм, отозвавшийся в нем глубинным, непонятным отчаянием.
Она заговорила негромким, низким голосом, очень холодно и, как ему показалось, как бы заранее отстраняюще, пресекающе. Сто двадцать шекелей, до двадцати минут. На этот раз двадцать, равнодушно подумал он. И на двадцать шекелей больше… Молодая… Сил бежать у него не было. Да и все равно, он уже как-то был убежден, что ему придется пройти через это, так не все ли равно, сейчас или потом?
…Как какой-то революционно-романтический юноша из девятнадцатого века, для которого главное было — решиться, а попадешь, промажешь — какая разница…
Главное, чтоб повесили.
Он подал ей ту самую, самую страшную купюру. Она приняла ее — кончиками пальцев он почувствовал прохладу ее ладони — и вышла.
— Раздевайтесь пока, — все так же холодно, тоном нелюбезной медсестры сказала она перед тем, как выйти.
Терпеливо, методично он расшнуровал шнурки на башмаке, снял его и сунул туда носок, потом то же самое проделал со вторым. Так же терпеливо он расстегнул пуговицы на рубашке и повесил ее на вешалку. Стащил шорты и положил рядом. Глянул на трусы. Решил пока оставить. Ее все не было. Он сидел и тупо ждал, все больше тупея. Понимал только, что когда-нибудь это кончится.
Наконец пришла она, неумолимая, как судьба.
— Трусы не мешают? — все в том же тоне недовольной медсестры спросила она.
Он, хоть и с трудом живой, хмыкнул.
Вручила ему сдачу.
Ком денег он неуклюже запихал в шорты, не сразу отыскав карман. С отвращением снял трусы и положил их рядом. Глянул вниз.
Позорище…
Было мучительно стыдно за свое абсолютное нестояние. (Впрочем, и за стояние было бы стыдно, только по другим причинам.) Еще когда он поднимался по лестнице, ему было абсолютно ясно, что он не сможет сделать того, ради чего, по слухам, сюда ходят; ну а какого черта тогда приперся, идиот? Какого хрена ради?