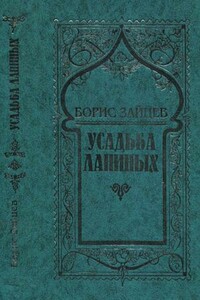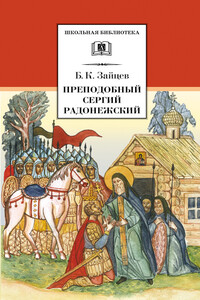Далекое | страница 71
Дом и жизнь Мойера были устроены на германско-европейский лад. Ничего от Мишенских, Долбиных. Никакого крепостничества. Ни широты и поэзии, ни распущенности барства. Порядок, труд, мещанское благополучие… – и серость.
С утра Мойер в университете, по больным. Маша работает дома, заходит «к маменьке». В третьем часу обедают, до трех Мойер спит, до четырех прием – дом наполняется разными людьми: мужчины и дамы, дети, купцы, мещане, чухонцы, бароны, графы. «Иному вырывает Мойер зуб, другому пишет рецепт, третьему вырезывает рак, четвертому прокалывает бельмо, и всякий кричит на разные голоса».
Между 4–5 Мойер запирается у себя «в горнице», готовится к лекциям. «В пять сани готовы и он едет в университет, а я ухожу в свою горницу». Тут Маша читает – по плану, сделанному еще в Муратове: рука Жуковского, все как и прежде. Где Жуковский, там тоже распорядок, в своем роде не хуже мойерского. К этому Маша привыкла с детства.
Приходит Саша, любимая Светлана, «бостон, пикет, фортепиано». Сестра Мойера наливает чай, стряпает кушанье и разговаривает. Мойер же приезжает в девять. В десять ужинают, в одиннадцать ложатся.
В эту жизнь, когда приезжает в Дерпт, входит Жуковский. Как и прежде, он свой и любимый, как всегда «непричем» у чужой, как-то устроенной жизни.
Его уважают и ценят и в обществе, и в университете, и русские, и немцы (некий Зенфт выразился о нем: «Жуковский необыкновенный человек, obgleich ein Russe»[17] – Маше пришлось защищать родину). С этим светилом залетным дружит и Мойер, на это есть основания. Есть просто и сходственные черты в обоих.
Иногда они проявляются.
Вот выходит Жуковский на прогулку. Зима, холодно. На углу нищий – курляндец с отмороженными ногами сидит на камне. Жуковский дает ему пять рублей, идет дальше. Нет, мало дал. Возвращается – еще пять, снова уходит. Снежком завевает в Дерпте этом, плоском и мирном. Прокатил на тяжелых лошадях в высоких санях ректор, Жуковский почтительно с ним раскланивается. Курляндец позади, но все не выходит из головы. «У меня двести рублей, а у него только десять» – возвращается, дает еще пятьдесят. Опять идет, слегка в горку к церкви. «Да, у меня обе ноги целы, могу еще и прогуливаться и в кармане полтораста, а ему каково?» Опять назад и еще пятьдесят.
Вряд ли часто встречал курляндец такого странного путника. Вряд ли Жуковский далеко ушел бы в тот день, если бы нищий, в полном восторге, не сдвинулся со своего камня (может быть, и опасался, что назад отберут: слишком уж непривычная сумма). Сдвинулся и добрался до почтовой помощницы Лангмахер, где из милости в углу и ютился. Она записывала доходы его каждый вечер. Ей все и рассказал. Выручка нынче была несметная.