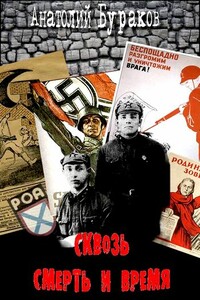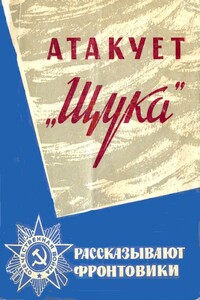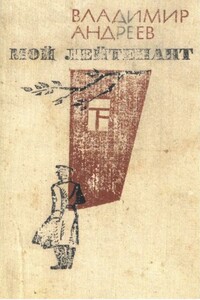Двое из многих | страница 7
Имре учился и того меньше: он окончил всего шесть классов начальной школы. Тоже выходец из крестьянской семьи, он работал поденщиком, когда находилась работа. В армию его забрали в одно время с другом Иштваном. Вместе они прошли огонь, воду и медные трубы. Вместе в пятнадцатом году попали в плен под Коломыей. Затем им предстояло проделать долгий и нелегкий путь через Буковину и Галицию. Пришлось поголодать, да еще как! Везли их в вагонах-телятниках, где их поедом ели вши. И наконец попали в солдатский лагерь для военнопленных в захудалом городишке Соликамске, что стоит на берегу Камы. Чего им только там не пришлось вынести! И тяжелую работу, и жестокое обхождение… Но больше всего пленные страдали от тоски по родине.
В лагере оба друга познакомились с худым бледнолицым унтер-офицером. От него они впервые в жизни услышали о социализме.
Иштван и Имре жадно вслушивались в каждое слово унтер-офицера, впитывая в себя новые идеи. Постепенно в них росла жгучая ненависть к тем, кто оторвал их от родного дома и бросил в эту мясорубку.
Молодого унтера звали Тибором Самуэли[1]. Он жил с ними в одном бараке и вместе переносил все тяготы и лишения плена.
В 1918 году в Сибири начали создаваться отряды Красной гвардии. Иштван и Имре в числе первых вступили в один из таких отрядов. Они старались не расставаться друг с другом ни на шаг. Их дружба закалилась в боях. Друзья делились последним куском хлеба, последней щепоткой махорки.
Вместе они жадно вдыхали воздух свободы, впервые обретенной на русской земле.
Тоска по родине уже не терзала их так сильно, как прежде. Правда, по вечерам они все так же вспоминали родной дом, звенящий ручей возле виноградников, радующие глаз пшеничные поля на Альфёльдской равнине, запах кукурузы, когда ее ломают и рушат… Среди огненно-желтых стеблей кукурузы нет-нет да и промелькнет девичье личико, обрамленное шелковыми волосами. Как тут не сорвать робкий поцелуй и не обнять крепко девушку, которая счастливо захихикает! А медовый девичий голосок звенит, как серебряный колокольчик…
Порой вспоминался храмовый праздник, на который из сотен сел стекались крестьяне — мужчины, женщины, дети… Шли с крестами, хоругвями, статуями святой девы Марии и молитвой: «О ты, святая дева Мария, будь к нам милосердна, даруй нам силы…» Конец молитвы обычно произносили так, что его невозможно было разобрать.
Однако если для стариков храмовый праздник был важен шепотом молитвы, то для молодых парней куда важнее было повозиться с красивыми, нарядно одетыми девицами. На таких праздниках обычно завязывались знакомства и вспыхивала любовь. После таких праздников нередко играли свадьбы.