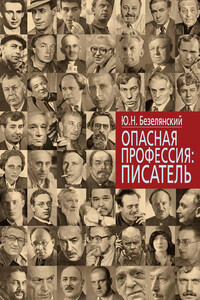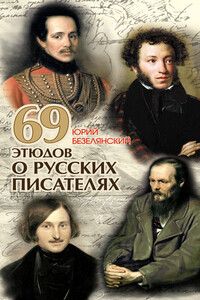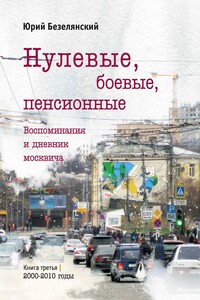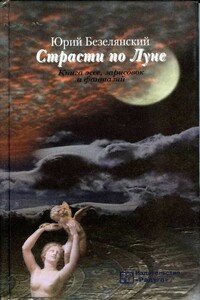Отечество. Дым. Эмиграция. Русские поэты и писатели вне России. Книга первая | страница 78
Крик души. Но еще в апреле 1920-го Северянин написал свою «Поэзу отчаянья»:
Северянин изверился, потому что жизнь круто переменилась. В Петербурге он был кумиром толпы. На его пьезоконцертах женщины млели от восторга. И все это кануло, ушло в прошлое. В ноябре 1924 года он выступил в Риге – и что? Рижская газета «Народная мысль» высмеяла поэта сначала в язвительной рецензии, а потом в сатирических стихах:
Что ж, отчасти верно. «Северянщина» устарела. Вышла из моды. Но Северянин стал со временем принципиально иным поэтом – более сдержанным, более сердечным, более размышляющим, более человечным. Однако именно такого Северянина читающая публика не желала приветствовать. Старый Северянин с сиренями и ноктюрнами уже не прельщал. Новый – с тоскою в сердце и со слезой на глазах – был толпе не нужен.
Что оставалось?
Так пишет Северянин в стихотворении «Вода примиряющая» (сентябрь 1926 года).
И концовка стихотворения, полная боли и слез:
Некогда яркая, широкая и громкокипящая жизнь Северянина в те эмигрантские дни свелась к простоте и незатейливости: летом – природа и рыбная ловля, превратившаяся в страсть, любимейшая книга – Аксаков, «Об уженье рыбы», голубая лодочка «Ингрид», а зимой – снег выше окон, лыжи, стихи, творчество и перечитывание классиков…
Здоровый образ жизни – скажет кто-то из читателей. Так-то оно так. Но ведь еще и кушать надо… А безденежье – постоянная петля на шее поэта. Хорошо, что нашлась добрая душа – Августа Баранова, которая любила стихи Северянина и помогала ему в течение ряда лет, была для него как Надежда фон Мекк для Чайковского. Августа жила в Швеции, работала в стокгольмском отделении Российской железнодорожной миссии. Туда, в Стокгольм, и летели письма-просьбы-исповеди Игоря Северянина: