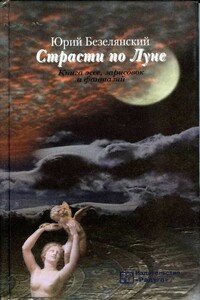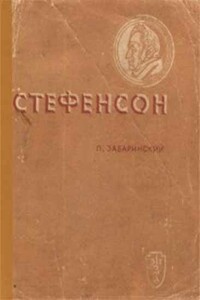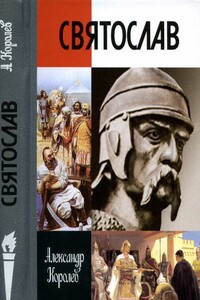Отечество. Дым. Эмиграция. Русские поэты и писатели вне России. Книга первая | страница 57
Но в конце письма Адамович вновь находит примирительные слова: «А вообще-то можно написать еще много, но всё ясно и без…».
Ясно, что смерть кружила уже рядом. Умер Ремизов, и Адамович отмечает в письме: «Все-таки плохой писатель, хотя Ты и ввернул гениальный…». И о Маковском: «Надо бы его унять, уж очень он возвеличился (к тому же) – на редкость противный и злой…».
Через год после этого письма умрет Георгий Иванов (26 августа 1958 года), а Георгий Адамович эмигрантскую лямку протянет еще 14 лет и умрет в Ницце 21 февраля 1972 года после второго инфаркта. И заплясали в голове невесть откуда взявшиеся строчки:
И последнее. В одном из эссе о Пушкине Адамович отмечает, что «Пушкин действительно явление грациозное, чарующее, последний из “чарующих”, удержавшийся на той черте, за которой очаровывать было уже невозможно…»
Адамович вспоминал письма Александра Сергеевича, пронзительно грустные: «В них Пушкин не притворяется, отсмеивается, не оглядываясь, пятится назад, нехотя балагурит, как будто зная, что все равно все пойдет к черту: Россия, любовь, стихи, всё».
Марина Цветаева: буря и бездна
Моим стихам, написанным так рано,Что и не знала я, что я – поэт,Сорвавшимся, как брызги из фонтана,Как искры из ракет,Ворвавшимся, как маленькие черти,В святилище, где сон и фимиам,Моим стихам о юности и смерти,– Нечитанным стихам! —Разбросанным в пыли по магазинам,Где их никто не брал и не берет,Моим стихам, как драгоценным винам,Настанет свой черед.Марина Цветаева, 1913
Марина Ивановна Цветаева (1892, Москва – 1941, Елабуга). Великий поэт.
«…Она никак не была литератором. Она была каким-то Божьим ребенком в мире людей. И этот мир ее со всех сторон своими углами резал и ранил. Давно, из Мокропсов (в Чехии), она писала мне в одном письме: «Гуль, я не люблю земной жизни, никогда ее не любила, в особенности – людей. Я люблю небо и ангелов: там с ними я бы сумела». Да, может быть» (Р. Гуль. Я унес Россию).
«…Никаких политических убеждений у Цветаевой не было. Всякая догма была для нее остывшей прописью. Живи Марина в эпоху военных поселений Аракчеева, она презирала бы так же царизм, как презирала и ненавидела большевизм. Своего прирожденного чувства и жажды свободы ни при каких обстоятельствах она не скрывала, не подавляла. «Бес разрушения», который казался некоторым в Марине, был живым негодованием перед всяким насилием и угнетением – в жизни, в искусстве. Для нее не существовало ни запретов, ни преград, ни ограничений в собственном исповедании или поведении. Полуправды для нее не существовало»