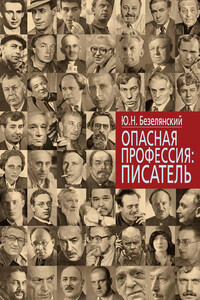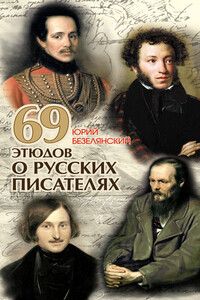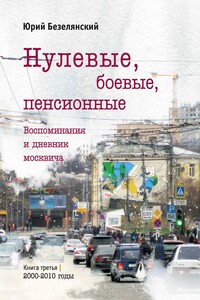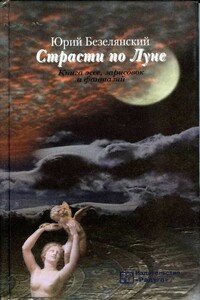Отечество. Дым. Эмиграция. Русские поэты и писатели вне России. Книга первая | страница 113
Или другая песня, «Лагерная»:
Карсавина определили в Абезь, в инвалидный лагерь. Долго он там не протянул и скончался 20 июля 1952 года в изоляторе для безнадежных, на 70-м году жизни.
Среди его творческого наследия – 5 томов «Истории европейской культуры», 6-й том изъят при аресте и утрачен.
Вот такая судьба, и она отличается от судьбы его сестры Тамары Карсавиной (1885–1978), примы-балерины Мариинского театра. Петр Пильский писал о ней:
«…Вся – ослепительный блеск, великолепное колдование, сладкое и мягкое владычество, волшебство танца, непобедимая притягательность, в огнях и пыланье своего огромного таланта…» («Роман с театром»).
Тамара Карсавина связала себя не с Россией, а с балетом. Начала гастролировать по Европе с 1906 года, а с 1919-го по 1928-й блистала в труппе Сергея Дягилева. А когда оставила сцену, то в течение 25 лет являлась вице-президентом Королевской академии танца в Лондоне. И никакой совдепии, СССР и лагерей…
Ну, и что в заключении «Философского парохода»? Философы – самая интеллектуальная часть интеллигенции, той русской интеллигенции, которая радела за народ и подталкивала его к революционным переменам, наивно предполагая, что с революцией придут свобода духа, благоденствие и народное счастье. Ничего из этих мечтаний не сбылось. Революция снесла старую Россию и построила новую, отнюдь не лучше первой, а в чем-то и хуже. В этом смысле на интеллигенцию ложится часть ответственности за происшедшее в стране. Пусть маленькая, но все же вина. Стало быть, интеллигенция несет в себе некий дуализм – комплекс жертвы и палача. Впрочем, сама жизнь диалектична, в ней добро и зло, любовь и ненависть порою связаны между собою.
И еще соображение. Конечно, в судьбе народов виноваты прежде всего кормчие, национальные лидеры, наместники Бога – цари, генсеки, президенты. Они определяют вектор направления истории, устанавливают законы и порядки, регламентируют жизнь своих подданных и с натяжкой сказать – граждан. А сам-то народ? Что он?.. Писатели-классики много чего об этом написали, много чего высказали в глаза. Правду неприятную, колющую, болезненную. Как написал Гершензон о временах Герцена и Писарева: «…Полвека толкутся… перебраниваясь. Дома – грязь, нищета, беспорядок, но хозяину не до этого. Он на людях, он спасает народ, – да оно и легче и занятнее, нежели черная работа дома…»