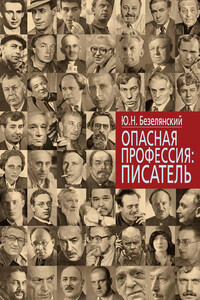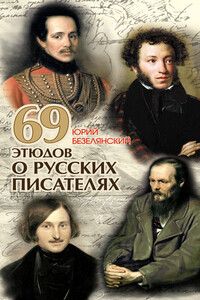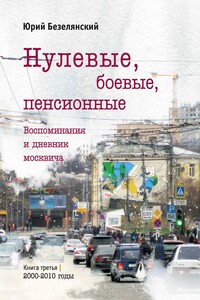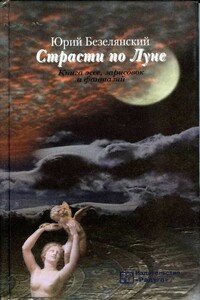Отечество. Дым. Эмиграция. Русские поэты и писатели вне России. Книга первая | страница 107
Незабываемый, эффектный, оригинальный поэт и кабаретный драматург Михаил Кузмин после революции потускнел, увял, сгорбился. Его не печатали, был мало востребован. Его интеллект, изящество и фривольность не были уже нужны, это про таких, как Кузмин, Маяковский угрожающе спрашивал: «Кто там шагает левой?!.» Изысканная поэзия Куз-мина больше не пользовалась спросом, новая советская литература была сориентирована на примитивную «простоту», на «общепонятность», на то, как писали, к примеру, Демьян Бедный, Лебедев-Кумач и прочие истинно советские литераторы. А Кузмин остался Кузминым. В дневнике он записывал: «Действительно, дорвавшиеся товарищи ведут себя как Аттила, и жить можно только ловким молодцам, вроде Рюрика (Ивнева) и Анненкова или Лурье и Альтмана».
Мысль о том, чтобы самому приспособиться, была совершенно чужда Кузмину, что в конечном итоге привело его к почти полной изоляции в 20-30-х годах. В кругу надежных людей Кузмин подчеркивал свое полное неприятие большевистской власти, пока это было можно произносить, не рискуя своей головой.
В 1907 году Кузмин придумал себе эпитафию: «30 лет он жил, пел, смотрел, улыбался…» Надпись же на могильной плите предельно проста:
«Михаил Кузмин 1875-1936
Поэт».
Философский пароход спас многих российских интеллектуалов. А у тех, кто остался в Советской России, сложились разные судьбы. Историк и философ Михаил Гершензон активно работал и после революции, достаточно назвать книги «Мечта и мысль Тургенева», «Мудрость Пушкина». Не конфликтовал с властью. А своему товарищу-философу гневно писал: «Зачем ты сидишь в Париже? зачем тебя здесь нет?» (15 февраля 1924 года).
Михаил Степанович Гершензон умер в Москве 18 февраля 1925 года, в возрасте 55 лет. На его похоронах какой-то коммунист, естественно, одетый в кожаную куртку, в «кожанке», сказал о том, что, хотя Гершензон был «не наш», все же пролетариат чтит память этого «пережитка буржуазной культуры».
Но вернемся к тем, кого выслали морем.
Федор Августовович Степун (1884, Москва – 1965, Мюнхен). В 1910 году защитил в Гейдельбергском университете докторскую диссертацию по историографии Владимира Соловьева.
После Октября оставался в Москве, где «сердце каждого человека билось не в груди, а холодной руке невидимого чекиста», читал лекции в ряде театральных студий, преподавал в Вольной Академии духовной культуры, составил сборник «Освальд Шпенглер и Закат Европы», в котором, кроме Сте-пуна приняли участие Бердяев и другие философы. Сборник попался на глаза Ленину, усмотревшему в нем «литературное прикрытие белогвардейской организации». Последовал мгновенный арест. На вопрос: «Каково ваше отношение к советской власти?» Степун ответил: «Как гражданин Советской федеративной республики, я отношусь к правительству и всем партиям безоговорочно лояльно; как философ и писатель, считаю, однако, большевизм тяжелым заболеванием народной души и не могу не желать ей скорого выздоровления».