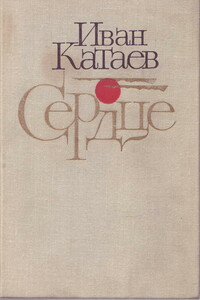Ровесники: сборник содружества писателей революции «Перевал». Сборник № 7 | страница 40
— Это все? — спрашивал меня нетерпеливо Луиджи. — И больше ты ничего не вынес? А что ты скажешь о Бокаччио и Камилло Бокаччини, Кампи, Альтобелло Мелоне, Бембо, Гатти? Неужели ты не запомнил в соборе «Жизни девы Марии», «Явления во храм» и «Бегства из Египта»? А «Христос перед Пилатом» Порденоне? И его же «Распятие Христа» Неужели не помнишь в церкви Сан-Августино и Джиакомо «Мадонну меж двумя святыми» Перуджино и фрески Бонифацио Бембо?.. Тебе не врезалось это в память?..
— О, — отвечал я подавленно, — я все это видел, но плохо помню.
— Что же ты запомнил?
— Я помню «Страшный суд»…
— Ну вот, опять страшный суд, — перебил он гневно и задумался. — Твоя мать, — сказал он, — вручила мне тебя не для того, чтоб я из тебя сделал монаха. Для этого было бы достаточно отца Пьетро или Себастьяна. Я должен сделать из тебя мастера. Поэтому все твои увлечения мало меня трогают, — по-моему, это потерянное время. Сходи еще раз и посмотри все фрески этих художников, да поменьше думай о том, как будешь мучиться в аду, а постарайся вникнуть в рисунок и композицию. В соборе увидишь на хорах деревянную резьбу Джиованни Платина и Пьетро далла Тарсиа, а в ризнице церкви Сан-Аббондио — резные шкафы того же Платина… И если это тебя ничему не научит, то останется только пожалеть.
Да, я был еще раз в этих храмах и до одури смотрел на это дерево, о котором говорил Луиджи, причем, признаюсь, мне приходилось бороться с чувством благочестия, побуждавшим меня к коленопреклоненной молитве, чтобы быть внимательным и вместо того стараться запомнить особенности резьбы. Я делал это в угоду Луиджи, так как он меня подробно и настойчиво расспрашивал. Теперь я хорошо понимаю, что его цель была заставить меня смотреть на это как на дело рук человеческих, в то время как я не мог не чувствовать святости этих предметов, сообщенной высоким назначением дома молитвы, в котором они находились. Но и тогда уже я стал ощущать в душе невольную неприязнь к этому направлению моих занятий, которое давал Луиджи.
Быть может, поэтому, в противовес влиянию Луиджи, во мне росло желание ближе узнать и поклониться не материалу, из которого делаются предметы церковной утвари, но той тайне, которая делает эти простые предметы священными. Я говорил с отцом Себастьяном, я умолял его, конечно, тайком от Луиджи, и он согласился учить меня языку нашего священного писания — латыни. Эти занятия были мне также не легки, но я преодолевал трудности с жаром и одушевлением. Никогда в жизни не забуду этих часов, украдкой проводимых мною в келье отца Себастьяна. Я хорошо знал, что Луиджи счел бы их несвоевременными, и ничего не говорил ему о них.