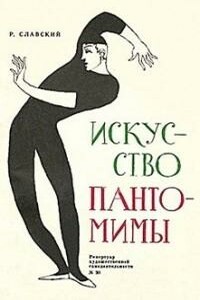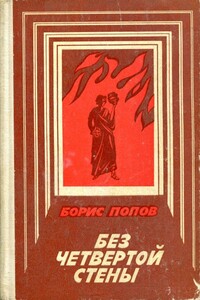Не только о театре | страница 23
Советский театр — сложный многогранный организм, состоящий из разных жанров. У каждого жанра есть свое назначение, свои функции, свои правила, свои условия существования, свои взаимоотношения со зрителем.
Я думаю, что борьба с правами жанров, которую вели люди, не понимающие законов жанра, сыграла немалую роль в создании такого распространенного явления, как серые, невыразительные спектакли. Советский театр вправе принять и утвердить те театральные жанры, которые ему годятся, и отбросить те, которые не годятся, — гиньоль с ужасами или фарс с непристойностями. Но годные, принятые нами жанры должны существовать на равных правах. А у нас нет равноправия жанров. Считается, что самый почтенный жанр — трагедия. Правда, советские драматурги, как мы знаем, не пишут трагедий, да и с классикой мы тоже не так уж часто имеем дело. Затем — драма, которая менее почтенна, чем трагедия, но гораздо почтеннее комедии. Комедия же, которую все любят и охотно посещают, — жанр несолидный, к нему в лучшем случае относятся снисходительно.
Решить вопрос о четкости и равноправии жанров необходимо и для того, чтобы расширить рамки нашего репертуара.
Нам часто приходится иметь дело с пьесами, против которых нельзя возражать, потому что они содержат полезную идею, не грешат против жизненной правды, не ломают наши верные представления о том или ином вопросе, но ничего нового не вносят в эти верные представления. Мы обязаны ставить перед советскими драматургами требование, чтобы в пьесе говорилось новое слово, не сказанное до сих пор по данному поводу. Пусть пьеса породит дискуссию в зрительном зале, пусть возникают споры по поводу глубоко вскрытой темы. Такая постановка вопроса, хотя бы и без исчерпывающих его решений, оправдает и постановку пьесы на сцене. Драматургия, уступающая другим свое право говорить новое слово, тем самым отказывается от своей основной обязанности.
Мы часто говорим о том, что наши современники хотят видеть себя на сцене. Это верно. Но как видеть? Это надо расшифровать, надо вдуматься в существо этого правильного утверждения. Они хотят знать о себе больше, чем знают. Они хотят в каждой пьесе (и в каждом спектакле) понять новые стороны своей жизни. Допустим, что в доме настоящего советского человека мы установим магнитофон. Мы снимем на пленку и запишем все, что происходило и говорилось в течение вечера. Это будет чрезвычайно правдиво, но чрезвычайно неинтересно. Особенно неинтересно это будет тем самым советским людям, которых снимали и записывали. Непереваренные, необобщенные наблюдения, не доведенные до степени искусства, никому не нужны, но, к сожалению, они не редкость в наших пьесах и спектаклях.