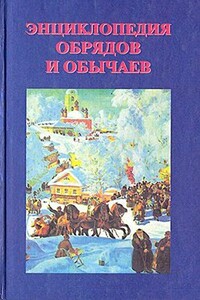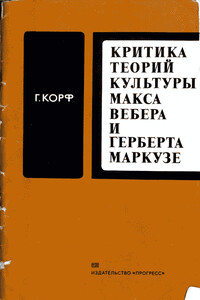От знака к знанию. Четыре лекции о том, как семиотика меняет мир | страница 19
Отечественная семиотика, кроме этого «основного мифа», ввела несколько терминов, получивших потом всемирное признание. Один из них – «вторичные моделирующие системы» для обозначения вектора интереса семиотики: часто даже мероприятия по семиотике назывались мероприятиями по «вторичным моделирующим системам» – это позволяло обходить цензуру, не очень благосклонно встречавшую новые науки, но в целом одобрявшую «шестидесятнический» технократизм с разного рода технологическими метафорами для описания любых процессов. Язык, естественный или литературный, понимался как первичная система, тогда как искусство, религия или бытовой этикет – как вторичные системы, «моделирующие» в том смысле, что имеют свои правила, которые могут регулярно исполняться.
Этот термин вызвал ряд недоумений, например, А.Ф. Лосева, заметившего, что эти системы скорее моделируются, чем моделируют что-то еще. Лосев при этом исходил из идеалистического образа культуры как запаса смыслов, которые художники или ученые обрабатывают, придавая им идеализированную форму. Но тартуские исследователи подчеркивали просто различие между языком, в строгих рамках которого никогда нельзя построить никакой непротиворечивой модели, – в языке всегда есть некоторая аномальность, – и культурными достижениями, которые именно что живут тем, что они – модели. Ведь на структурализм повлиял, хотя и очень косвенно, русский формализм, учение о том, что искусство создается не иллюзорными образами, а приемами, разоблачающими эту иллюзорность; а на формализм, еще более косвенно, – философия жизни Ницше.
Ницше нельзя было не заметить, так он был моден. В разделе «Чем я обязан древним» из книги «Сумерки божков» Ницше заметил, что в стихах Горация изложение не линейно, но представляет собой «мозаику слов», которые «изливают свою силу вправо, влево, на целое». По сути, здесь в зерне главная идея поэтики Тынянова – «теснота стихового ряда» (в книге «Проблема стихотворного языка», 1924), определенная сжатость поэтического изложения, разделенного на строки, позволяющая грамматической семантике одних слов влиять на лексическую семантику соседних. Возможно, здесь повлиял еще русский адепт стиля Ницше Лев Шестов, поставивший эпиграфом к своему «Апофеозу беспочвенности» «Не для боящихся головокружения» – сразу представляется вполне тесная горная тропинка, по которой нужно сделать ряд шагов – поэтических стоп.
Также и тезис Ницше о том, что слабые филологи колеблются, а сильные чем дальше, тем больше идут по прямой, потом многократно отзывался в русской культуре, начиная с шуточного доклада О.М. Фрейденберг «О неподвижных сюжетах и бродячих теоретиках», где явно соединен термин А.Н. Веселовского «бродячий сюжет» с духом ницшевской веселой науки, до определения С.С. Аверинцевым принципа средневековой культуры как «уже, но еще не» (спасение уже явлено, но еще не достигнуто) – то есть требуется твердость и интенсивность движения, а не колебания вокруг уже достигнутого.