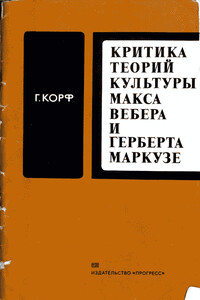От знака к знанию. Четыре лекции о том, как семиотика меняет мир | страница 13
Первыми связали учение Соссюра об означающем и означаемом с учением Гуссерля о ноэзисе и ноэме русские формалисты. Так, идея остранения, выдвинутая Шкловским, как раз подразумевает, что переживания позволяют посмотреть на вещь со стороны, но эта возможность диктуется самой вещью, точнее, ее смысловым ядром, как и по Соссюру, смысловое ядро означаемого, идея или концепт, определяет ассоциативную связь с ним означающего.
Но формализм столкнулся с важным ограничением своего метода: можно было описать эксцентричные переживания, которые и пестовал любимый формализмом русский авангард, но нельзя было описать нормативные переживания. Вообще, анализ авангарда очень хорошо показывает, что в нем ноэзис и ноэма или поэза и поэма соотносятся как два разных мира. Возьмем для примера всем известное стихотворение Маяковского «Я сразу смазал карту будня…» (разбору этого стихотворения я обязан разговору с филологом О.Б. Кушлиной). Сюжет его реконструируется исходя из реалий 1915 г., а именно, военного кризиса. Герой пришел в ресторан и в волнении от фронтовых событий пролил вино на меню, карту (бу)дня, причем предпочел более дешевое красное вино белому из-за нехватки денег; далее, находящийся в глубоком экономическом кризисе ресторан принес ему вместо речной рыбы суррогат – морскую рыбу, выловленную на Дальнем Востоке, в китайско-японском регионе мира («косые скулы океана»), причем одноразовая тарелка тоже из экономии оказалась предназначена для «новых губ», многоразового использования. В конце Маяковский задает вопрос: могли бы вы тоже составить стихотворение из признаков современного города, указав на запущенность коммунального хозяйства во время войны, что даже водосточные трубы толком не чистят.
Но выходит, что здесь кроме поэзиса (футуристической образности) и поэмы (Петрограда 1915 года), ядро которой, а именно, реалии военного времени, и возбуждает странные, совершенно в духе Пикассо переживания, есть еще и сам поэт, который в конце общается с читателем и создает норму поэтизации действительности. Такой фигуры поэта у Гуссерля, занимавшегося исключительно познанием мира, быть не могло. Но зато получившаяся схема из трех поэт – поэз – поэма больше всего напоминает триаду Жака Лакана (1901–1981), великого французского психоаналитика, «реальное – символическое – воображаемое», которую он сам представлял как Кольца Борромео, сплетенные все со всеми. У Лакана, как и положено психоаналитикам, человек – объект, а не субъект; человек – жертва воздействия, а не автономное лицо. Реальное – это тогда поэт, это то, что определяет место вещей и в том числе наше место; символическое – поэзис, придание нашим субъективным переживаниям объективного рокового смысла, а воображаемое – поэма, единственный способ собрать образ как связное смысловое содержание. Этим Лакан отличается от Фрейда, у которого существует только поэзис и поэма, тогда как деятельность поэта – это невроз, как и у Гуссерля деятельность поэта внутри познания – лишь неизжитая «естественная установка». Поэтому когда Якобсон говорит о функциях языка, по сути, о его целеполагании, то он имеет в виду не фрейдовскую, а лакановскую модель: во фрейдистской семиотике язык выглядел бы лишь как одна большая ошибка.