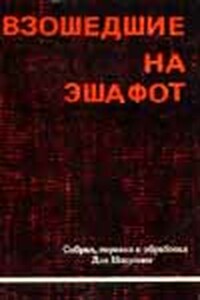О науке и не только | страница 61
Нам в пример ставят американскую систему образования — она-де готовит специалистов, которые приходят на работу в фирму и сразу без переучивания или доучивания начинают приносить реальную пользу. Все дело в концепции личной ограниченности, лежащей в основе американского образования. Во время учебы в вузе будущий работник специализируется на неизбежно узкой и, как правило, сужающейся теме и становится ограниченным, односторонне развитым. По М. Делягину «если организация — это нечто «большее, чем человек», то ее сотрудник, какие бы степени свободы ни были ему предоставлены, — неизбежно уже нечто меньшее. Именно в этом заключается, с одной стороны, один из секретов успешности американской личной ограниченности, режущей глаз представителям других обществ, а с другой — причина последовательного и в итоге эффективного культивирования американским обществом этой ограниченности. Ведь ограниченность личности, ее одностороннее развитие облегчают ее встраивание в организацию и тем самым повышают ее эффективность как частичного, пусть даже и творческого, работника.
Односторонне развитых людей легче складывать в организационные структуры — по тем же причинам, по которым строить сооружения из одинаковых и потому заведомо совпадающих друг с другом кубиков проще и надежней, чем из хаотически подобранных объектов случайных, пусть даже и красивых, очертаний.
Именно в этой особенности американского национального характера заключается одна из причин того, что искусство составлять людей в структуры впервые появилось именно в США. А когда людей легче складывать в структуры, то и сами эти структуры работают надежней и эффективней».
Отвлечемся на время и покажем на моем примере, что в учебном вузе аспирант, соискатель при работе над диссертацией все должен делать сам. Передо мной стояла задача — подготовить и провести натурный эксперимент по теме кандидатской диссертации (исследование тепловых режимов гидрообъемной передачи). Помню и объект исследований — выделенный мне небольшой гидромотор (в габаритах современного принтера), с которым мне позволялось делать что угодно. Я высверлил в корпусе гидромотора около 10–12 каналов для монтажа термопар, смонтировал термопары ХК, причем некоторые спаи были выведены в полости, в которых перемещалось масло (рабочая жидкость). Для герметизации корпуса я залил высверленные отверстия с термоэлектродами эпоксидной смолой. Все работы я выполнял самостоятельно, потому что один из работников учебной лаборатории (начальник) сказал мне прямо, что за их помощь нужно платить. Оставшиеся связи в ОКБМ позволили достаточно легко помимо термопар купить вторичные приборы — потенциометры, в лабораториях кафедры таких приборов не было, но деньги для их покупки выделил институт по ходатайству Г. А. Конакова. Вспоминая об этом эксперименте, я всегда удивляюсь, что в процессе испытаний термопары не выбило, ведь давление внутри корпуса гидромотора было большим. Деталей своей кандидатской работы я не помню, что свидетельствует только об одном: эта работа досталась мне без пота и крови, и делал ее я без особой любви, для галочки. Эта работа не затронула глубинных струн моей души, и душа моя как душа научного работника тогда еще не сформировалась.