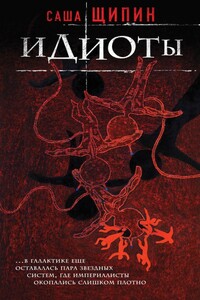Очарованье сатаны | страница 27
Его благородство не тронуло Элишеву.
— Хоть ты, Шевка, я знаю, не с нами, но ты и не против нас, — неуверенно произнес Генис и, не дождавшись в ответ ни кивка, ни одобрительного взгляда, ни обязывающего или уклончивого слова, продолжил: — А пока решишь, ехать или не ехать, принеси нам чего-нибудь поесть. У меня кишки похоронный марш играют.
— И у меня, — с удовольствием потянулся к столу решительный Андронов.
Элишева выскользнула в сени и вскоре вернулась с закуской — ветчиной, ржаным хлебом, первыми овощами, головкой сыра с тмином.
— Ну как, решила? — поинтересовался Генис, наворачивая за обе щеки ветчину и похрустывая малосольными, в пупырышках, одурело пахнущими огурцами.
— А куры, а корова, а лошадь?.. Что будет с ними? — у самой себя спросила Элишева.
— А что будет с тобой, если останешься?..
— Что будет, то будет. Но я их не брошу. Без меня они подохнут.
— Воля твоя… — выковыривая ногтем крошки, застрявшие в пожелтевших от курева зубах, сказал Генис. — Но на прощание мой тебе совет — дуй отсюда, пока не поздно. Когда твоего Ломсаргиса сцапают, а его обязательно сцапают, ты уже никому не докажешь, что ничего не знала о его местонахождении. Никому.
Генис и Андронов встали из-за стола и, прихватив с собой ставшие в одночасье всенародными Ломсаргисовы грибочки в банках и пшеничный самогон в запотевших бутылках, вывалились во двор и зашагали к «эмке».
Остервенелый лай бдительного Рекса и рев мотора слились в сплошной режущий душу звук. Потом все, как на кладбище, затихло. Только за окном, подчеркивая ликующим жужжанием тишину, в лучах полуденного солнца нежился большой мохнатый шмель.
Шмелиное жужжание почему-то не успокаивало Элишеву, а еще больше угнетало. То был не страх за себя или за ни в чем не повинного Ломсаргиса, а вязкое и непреодолимое отчаяние. После отъезда Гениса и Андронова она была не в силах взяться за какую-нибудь работу, даже за самую необременительную — убрать со стола остатки еды, помыть посуду. Элишева сидела на лавке, вперившись взглядом в Спасителя, исполненного извечного живописного сострадания, и думала о том, что ей уже некуда и незачем ехать — ни к отцу в Мишкине, ни в Палестину — и что в этом повинна не новая власть, а она сама.
Элишева вдруг вспомнила, как уговаривали ее не предаваться пустым мечтам, остаться в Мишкине и жить так, как живут все. Откуда-то в наступившей тишине, колеблемой только ее взбудораженной мыслью, накатывали голоса; они роились, наслаивались, вытесняли друг друга, умолкали, чтобы через миг снова обрести прежнюю настойчивость и внятность.