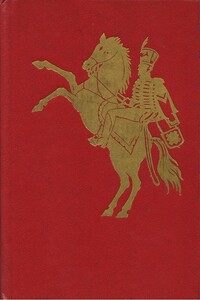Рассказы | страница 28
Еще пять ночей и четыре дня она не отпускала меня. Днем ходила к реке, выясняя: как и что и какая там шляется нечисть. По ночам — сгорала рядом со мной, не переставая возносить благодарствия Святой Ядвиге за явленное свыше чудо, и этим чудом был я. Я понял, что ее тоже зовут Ядвигой и потому-то не очень она удивилась, когда я в первый раз назвал ее этим именем, болтнул как спьяну, что хочу к ней в постель.
В одну из ночей она проводила меня к реке и, прощаясь, залила мне слезами лицо, из последних сил сдерживая рыдания и горестно сетуя, как долго не кончается горе и как скоротечно счастье, похожее на ветер в поле: налетит и умчится.
Без особых опасностей и приключений я перешел по льду на другой берег, не услышав ни единого выстрела. Дошел до ближайшего штетла, где еще жили евреи. Тогда почти в каждом штетле еще жили евреи. Я представился им на идиш, назвавшись при этом Эдвардом Потоцким, чем вверг их в полное недоумение и, похоже, панический страх: если я говорю на идиш, которому, как известно, в польских гимназиях не обучают, то какой же я Эдвард Потоцкий, а если это мое настоящее имя, то откуда он у меня, этот неподдельный кондовый мамэ-лошн[12], летучий, живой, безупречный? Да и вообще, с чего это вдруг являюсь я к ним в такие невеселые времена, когда люди, подобные мне, давно уже в Сибирь сосланы? Евреи старались не пускаться со мной в долгие разговоры, полагая, что и для меня будет лучше, если я поскорей доберусь до железнодорожной станции и направлю, как говорится, стопы свои куда-нибудь в глубь страны, в большой город, в Брест, например, или в Белосток, или в Лемберг, как тогда еще назывался Львов, и там уж мне будет легче разобраться с самим собой — с евреем по имени Эдвард Потоцкий.
Все страхи, какие существуют на свете, — одного общего происхождения, каждый страх вызывает колотун в сердце, ты весь напрягаешься, а потом обмякаешь. Не железнодорожную станцию отправляться искать хотелось мне, а улечься в сугроб и уснуть, уснуть навеки. Ах, зачем, зачем я сбежал от Ядвиги с ее черным эбонитовым крестом на груди? Рядом с ней мне почти ничего не грозило, мне было уютно у нее и спокойно, как младенцу на руках у матери. Рядом с ней я бы выжил среди этих пожарищ и страшных облав. А ведь я все время опасался, что на меня донесут и выдадут немцам. Она, девушка-христианка с косами до полу и крестом на груди, была моим талисманом, амулетом, камеей, но два-три слова на идиш, сорвавшиеся у меня с языка во сне, и моя истерия потом — вот что лишило меня покоя и уверенности в завтрашнем дне. Где в этих снежных пространствах искать эту железнодорожную станцию, не лучше ль вернуться к Ядвиге, пасть к ногам ее и просить прощения? Я бы что-нибудь мог ей соврать, и она бы, конечно, была рада поверить чему угодно и простить меня. Да, хорошо бы, но только вот как проделать весь этот обратный путь, снова пройти через столько опасностей? И что же, опять прятаться несколько дней и ночей в крестьянской избе, у той женщины, посреди снежной пустыни? С ней, конечно, было хорошо, сладко, но своей ненасытной, голодной, алчной любовью она просто-напросто изведет, погубит меня, как оно, несомненно, случилось бы, останься я там еще на какое-то время. Такая смерть — приятней, конечно, чем гибель от пули или под пытками, но итог ведь один: небытие. А что до Ядвиги, моей первой Ядвиги, то и она, притом, что девушка она добрая, сумеет ли она в самом деле простить мне мое предательство? После всего, чего лишилась она, после знойных наших ночей, нашей близости, нежности, почти неземной, неведомой на земле большинству мужчин и женщин, после этих утрат даже самая благородная любовница могла бы ожесточиться. И вот представляю себе: гестапо. И всего только несколько слов: «У меня там еврей засел, скрывается под фальшивой фамилией, называет себя Эдвардом Потоцким, пойдите заберите его, от вознаграждения за выдачу еврея отказываюсь…»