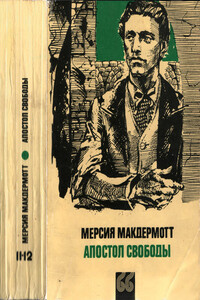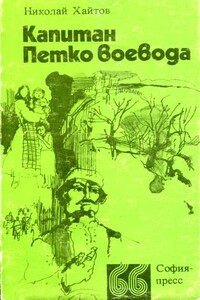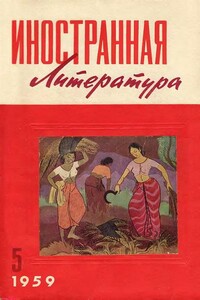Дурман | страница 21
— Худые времена настали, жена, — говорил Милю, тяжело вздыхая, — нам-то ясно, добра не видать в жизни, авось хоть дети устроятся лучше.
И только расплатились за Кабатину, тут он немного оправился, прикупил землю на Ортамогиле. И только успел купить, взяли его на маневры. И все заботы по хозяйству легли на ее плечи. Вертелась она, как заводная, просила людей помочь ей посеять хлеб — никто не отозвался. И пришлось ей заняться самой. Оставила дом, забросила детей и пошла пахать.
Вспахала всю землю, засеяла, управилась. За неделю до возвращения Милю с маневров Станка, их второй ребенок, тяжело заболела и умерла. И вот опять: только-только поставила ребенка на ноги — и снова слезы, и снова поминки. За два дня голова ее поседела. Теперь остался у нее один Минчо. Она и вздохнуть над ним не смела, пылинке не давала на него упасть. Чтобы выплатить земельный участок на Ортамогиле, экономили каждый грош, тянулись из последних сил! Все лето ели только таратор[6], лук, печеный перец да вареную алычу. Хлеб — чистая кукуруза, так и рассыпался в руках. Если кто из соседей, что позажиточнее, даст кусок пшеничного хлеба — берегли для маленького Минчо.
— Слышь, жена, не купить ли нам немного мяса? — спрашивал Милю умоляющим голосом. — Нутро у меня впрямь в огородную грядку превратилось…
— Денег нет, — поджимала она губы, — вот выплатим за землю, тогда…
Три года голодали, три года куска мяса и в глаза не видели. Один случай до сих пор забыть не может, как вспомнит, так сердце и заноет. Пошли они как-то на сельское гуляние на Петров-день. Минчо попросил ему купить свистульку. Ребенок все понимал и знал, что у них нет лишних денег, а это все равно, что бросить деньги на ветер. Но всем детям родители купили по свистульке, так вот и он. Уперся — и ни в какую. Всего-то пять стотинок стоила, так ведь она не дала. Обидно стало ребенку, губки даже задрожали, но крепкий уже был, сдержался, не заплакал. А когда вернулись с ярмарки в село — все ребятишки задудели в свои дудочки — не выдержал. Забился на сеновал и заревел. Отыскала она его там, успокаивала, отвлекала — ни в какую. „Почему плачешь?“ — спрашивает. Молчит, только всхлипывает, да так жалобно что сердце кровью обливается.
А то было вон отчего!
Когда выплатили участок на Ортамогиле, немного полегчало. Но Милю опять загорелся, заговорил о новой земле. Ходил сам не свой, все кроил да выкраивал, поля вдоль и поперек исходил. Больно уже приглянулась одна полоска, но тут объявили войну с Турцией. С тех пор начались черные дни. Иван родился, когда собирались от турков бежать. Все крутились, как очумелые, некому было пуповину перерезать. От Милю ни слуху, ни духу; сказывали, погнали их биться с сербами и греками. Наконец, пришла весточка из какого-то госпиталя, духом они немного воспряли, хотя Минчо трясла лихорадка, а она только родила. И все же хватило сил и одежонку в землю закопать, и хлеб припрятать. Даже сумела телегу брезентовым верхом покрыть. Но все обошлось: турки не пришли, война кончилась. Милю вернулся и, леченый-недолеченый, взялся за новую полоску. И снова крутись, как белка в колесе, снова дрожи над каждым грошом, и гни горб от зари до зари.