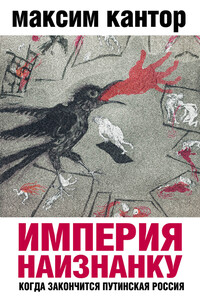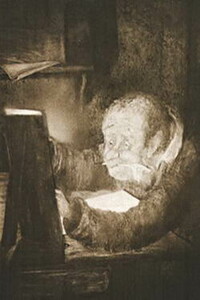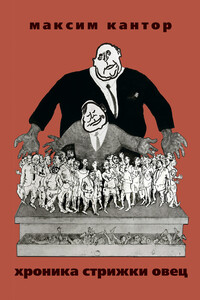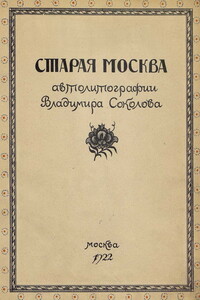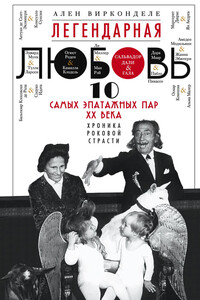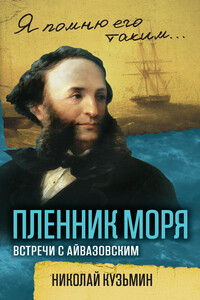Чертополох. Философия живописи | страница 78
сказал Бодлер в «Маяках», и ключевое слово здесь «вихрь».
Еще более живописными, нежели фресковая живопись, являются скульптуры Микеланджело к гробнице Юлия II – эти титанические фигуры, выходящие из скал, Бородатый раб, Атлант и Матфей. Все эти фигуры на две трети остались в толще камня, Микеланджело их не освободил от каменного плена. Он любил повторять, что скульптура уже содержится в камне, надо ее просто разглядеть и вызволить из породы, освободить. И в данном случае, он оставлял камень главенствовать над собственно скульптурой. Необработанная масса мрамора, которая скрывает объем, является не скульптурным, но живописным творением – мы любуемся структурой камня, но не его объемом. Необработанный камень выступает в данном случае как золотая тьма Рембрандта, как ночь Караваджо; нешлифованный камень буквально играет роль среды, каковую и пишет усердный живописец, нагнетая мглу в картине. Подобно тому, как герой Рембрандта выплывает к зрителю из густой янтарной мглы, так и герой Микеланджело появляется из необработанной, густой, клубящейся глыбы, словно раздвигая материю природы своим духовным усилием. Это практически повторяет усилие героев Рембрандта (хронологически, разумеется, порядок обратный), пробивающих внутренним светом темноту. Важно и то, что Микеланджело часто оставлял необработанной одну из сторон обнажившейся из камня формы – так, неотшлифованным остается плечо Иосифа Аримафейского в «Пьете». Продолжая аналогию с холстом и красками, это практически буквально передает эффект светотени – герой вышел из мрака, но его черты еще окутывает легкая мгла.
Есть еще важное свойство у этого приема: каменная порода – она как среда, но еще и как история; рождение героя вместе со средой преодолевает историю – герои словно выходят из не обработанной рефлексией истории.
Микеланджело был великим Скульптором, великим поэтом, великим живописцем и великим архитектором – все одновременно. Но мало этого – данные дисциплины не просто соседствовали в его работе, они были сплавлены в единый, как сказал бы Платон, эйдос знаний – то есть, существовали сведенные в одну сущность представления о свойствах мира. Микеланджело желал понять целое – хотел узнать, как устроен мир и как организовать его устройство лучше. Чтобы понять, смотреть следовало со всех сторон.
Дар многогранности имел в Средние века особый символ. Рабле, описывая путешествие учеников Пантагрюэля на остров Мидамоти, рассказывает о диковинном звере, которого Пантагрюэль шлет в подарок своему отцу Гаргантюа как олицетворение прекрасного. Этого зверя Пантагрюэль называет «тарант» (в Бестиарии Филиппа Танского «парандр», а Плиний именует его «тарандром»), зверь способен по желанию менять цвета.