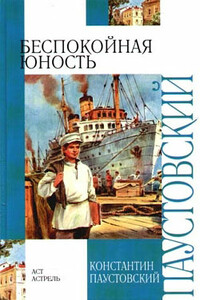Бросок на юг | страница 82
Когда мы дошли до припева, вошел Нирк и подхватил его с лихостью заправского тамады:
После Нирка в редакцию, поцарапав лапой дверь, пришел Мономах. Он участвовал в общем веселье и сглатывал куски колбасы с таким звуком, будто откупоривал тугие пробки. По всему было видно, что пес опытный в таких делах, как пирушки.
Веселье не утихло даже тогда, когда на многообещающий шум в комнате вошел мертвецки пьяный, но совершенно спокойный американский матрос по прозвищу Джокер. Поплевав на пол и не обращая на нас никакого внимания, он снял пиджак, скатал его валиком, положил в углу на пол и, ни слова не говоря, лег спать. Он проспал до утра и ушел так же молча и спокойно, как и появился.
С тех пор Фраерман забегал в редакцию по нескольку раз в день. Иногда он оставался ночевать.
Все самые интересные разговоры происходили ночью. Фраерман рассказывал свою биографию, и я, конечно, завидовал ему.
Сын бедного маклера по дровяным делам из города Могилева-губернского, Фраерман, как только вырвался из семьи, бросился в гущу революции и народной жизни. Его пронесло по всей стране с запада на восток, и остановился он только на берегу холодного Охотского (Ламского) моря.
Дальний Восток пылал. Японцы оккупировали Приморье. Партизанские отряды дрались с ними беспощадно и беззаветно.
Фраерман вступил в отряд партизана Тряпицина в Николаевске-на-Амуре. Город этот был похож по своим нравам на города Клондайка.
Фраерман дрался с японцами, голодал, блуждал с отрядом по тайге, и все тело у него было покрыто под швами гимнастерки кровавыми полосами и рубцами: комары прокусывали одежду только на швах, где можно было засунуть тончайшее жало в тесный прокол от иглы.
Амур походил на море. Вода курилась туманами. Весной в тайге вокруг города зацвели саранки. С их цветением пришла, как всегда неожиданно, большая и тяжкая любовь к нелюбящей женщине. Я помню, что там, в Батуме, после рассказов Фраермана я ощущал эту жестокую любовь, как собственную рану.
Я видел все: и бураны, и лето на море с его дымным воздухом, и кротких гиляцких детей, и косяки кеты, и оленей с глазами удивленных девочек.
Я начал уговаривать Фраермана записать все, что он рассказывал. Фраерман согласился не сразу, но писать начал с охотой. По всей своей сути, по отношению к миру и людям, по острому глазу и способности видеть то, что никак не замечают другие, он был, конечно, писателем.