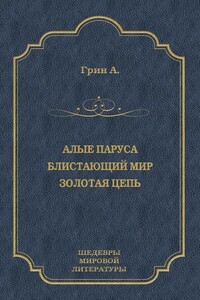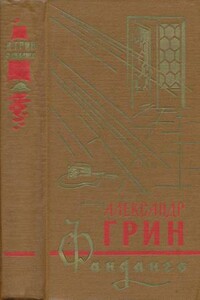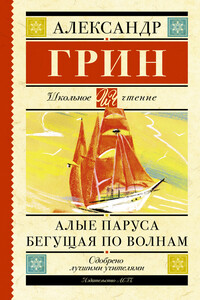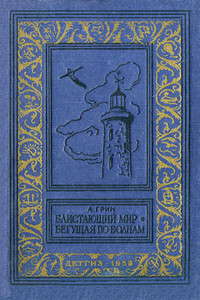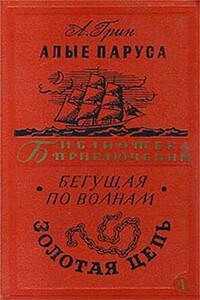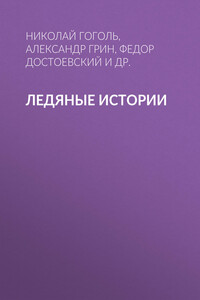Психологические новеллы | страница 5
Но вот наступает зрелость, и роман открывает читателю глубинные свои родники. С первых же его страниц зарождается и, чем дальше, тем больше, набирает силу мотив человеческой неудовлетворенности, драматического ожидания Несбывшегося: «Рано или поздно, под старость или в расцвете лет, Несбывшееся зовет нас, и мы оглядываемся, стараясь понять, откуда прилетел зов… Между тем время проходит, и мы плывем мимо высоких, туманных берегов Несбывшегося, толкуя о делах дня».
Мотив этот разворачивается в целую теорию Несбывшегося. Наши представления о нем являются, в сущности, представлениями о должном, они вырастают из «двойной игры, которую мы ведем с явлениями обихода и чувств»: с одной стороны, мы миримся с обиходной действительностью, с другой — жаждем ее преображения, подобно тому, как происходит оно «в картинах, книгах, музыке». Несбывшееся приобретает значение пересозданной действительности, но в энергично нарастающем мотиве его приближения возникает новая нота — оно так и не сбудется, не может сбыться, задавая ту меру идеальной полноты жизни, к которой герой должен постоянно устремляться в своих напряженных духовных исканиях.
По поводу романа «Блистающий мир» можно сказать то же, что однажды проницательно заметил Э. Климов в связи с рассказом В. Распутина «Наташа», — прозаик хочет показать человека «в четвертом измерении». Чудесное свойство — «не знать ни расстояний, ни высоты» — как будто бы позволяет герою романа Друду весь мир сделать своим домом; об этом, по мнению автора, стоит и должно мечтать. Но мир еще не готов быть для человека домом и отвечает высокой мечте героя либо ужасом «невежественного рассудка», либо низменным стремлением использовать его дар в корыстных интересах, либо ненавистью и преследованием. Перед нами образ-символ, образ-концепция, выражающий трагическое противоречие между величием творческих сил индивида и неспособностью человечества осознать это величие как общее, «родовое», свое собственное.
Как только не называли критики произведения Грина — и романтическими, и «маринистскими», и авантюрно-приключенческими, и фантастическими (под заглавием «Фантастические новеллы» вышел в 1934 году известный сборник, в котором, кстати, многие рассказы ничего фантастического в себе не содержали, — «Гнев отца», «Брак Августа Эсборна», «Возвращение», «Комендант порта»). Есть, однако, одно свойство, которое может быть названо родовой чертой гриновской прозы в не меньшей степени, чем ее романтизм. Я имею в виду роль и значение в ней психологического начала.