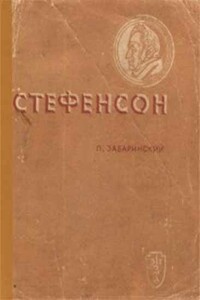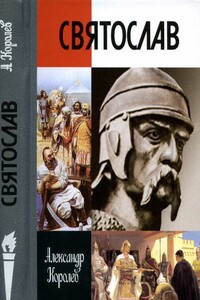Великий распад. Воспоминания | страница 79
– Вы же знаете, с кем я должен делиться…
Дорогу построили отвратительно, но Быховец переселился на Миллионную, завел автомобили, детей воспитывал в Лицее. Тертий, как и весь Петербург, это знал, подшучивал, острил, но начетов на Быховца не делал.
И, живя на Мойке вверх, плыл по течению вниз, в хоромы Витте.
Не то было с другими министрами, особенно теми, чьи жены манкировали журфиксами на Мойке. Тертий скушал не одного из них. С особенным смаком проглотил он министра путей сообщения Кривошеина. Этому министру он не мог простить его светскости, богатства и министерского дворца на Фонтанке.
Кривошеин взобрался на Олимп после Тертия, никакого стажа не прошел, но развел такую пышность, перед которой побледнели рауты и журфиксы Тертия. К тому же Мария Петровна (супруга Кривошеина) манкировала Марию Ивановну – супругу Тертия. И начался бой, завершившийся скандалом и ломкой костей Кривошеина>210.
Дряхлея и просачиваясь ядом злости, Тертий, как тарантул, бросался решительно на всех, даже на своих благодетелей. Так, он едва не перегрыз горло сотворившему его кн[язю] Мещерскому и пытался задушить «милейшего Дурново».
Не давал ему спокойно властвовать и Победоносцев. Ревность к нему возгорелась у Тертия еще когда он был подручным Сольского, пел на клиросе и считал себя первым в России церковником. Еще с тех пор Тертий шушукался с епископами и митрополитами, оппонировавшими обер-прокурору. Был он сторонником патриархата и, во всяком случае, церковной эмансипации от Синода. В церковной иерархии у него было много друзей.
Про Тертия ходил такой анекдот: исповедуется юная грешница. Так, мол, и так – согрешила.
– С кем? – любопытствует исповедующий.
– С Тертием Ивановичем…
– Ну, с ним можно…
На посту обер-прокурора Синода Тертий, быть может, поднялся бы до истинного творчества, создал бы если не «живую», то полуживую церковь. Весь его внешний облик вместе с внешним благочестием свидетельствовали о том. Как государственник Тертий не достоин был развязать ремня обуви Победоносцеву, но как живая, яркая личность оставлял его за флагом.
У Тертия был типичный, ему одному свойственный, шелестящий смешок, которым он сопровождал свои эпиграммы, анекдоты и эпитафии. Смешок этот казался мне добродушным, покуда Тертий не попал на Олимп. Там он превратился в змеиное шипение.