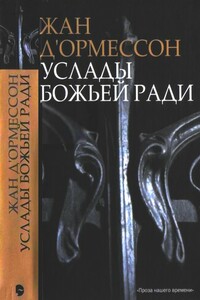Полковник | страница 39
Как широко распахнуты все дни ее серые глаза, да разве видит она сейчас что-то кроме него, ее Ивана Федоровича? Как тянется к нему ее душа, руки, мысли… Роди она сейчас, прекрасное бы родилось дитя. Наверное, неземное, отмеченное прекрасной скорбью великих мадонн. Ибо вся сейчас Тамара Сергеевна похожа на раненую прекрасную птицу, что тянется вся в напряженно-неудобной позе вослед улетающей стае…
И вот этот ночной приступ, когда вся прежняя жизнь просвечивает через единственный вопрос: что же ей теперь делать?
— Боже! — в восторге воскликнула рыдающая Тамара Сергеевна. — Отдай мне его! Ты только отдай, а дальше я уж… как-нибудь сама… — Рыдание. — Отдай, отдай! — Рыдание, в котором страсть. — Отдай, несмотря ни на что, отдай, несмотря на болезни, несмотря на жену его… отдай… — Рыдание, боль и грубость дикой силы. — Отдай без всяких «но», и я спасу его! Так много во мне любви и страдания, так много и женского, и материнского вместе, что я обязательно спасу его… Я закутаю, милый, тебя в пуховую шаль, никто не отыщет… Боже, возьми что хочешь, только его мне отдай!
То, что происходило с ней, не удивило Тамару Сергеевну. Она кружилась без устали по комнате, словно в вечном танце. Новые рыдания наполняли комнату туманом, в котором и кружилась Тамара Сергеевна. Она уже чувствовала, что все, что попадает в ее состояние, все, что мелькает пред глазами, хоть на миг выхватывается глазом или мыслью, — все обнаруживало как бы пульс. Это она, она! — этот пульс наполняла, одушевляла. Надо только любить так сильно, как она. Тамара Сергеевна в этот миг не сомневалась в своем могуществе: «Ты только отдай мне его, о боже!» Только бы схватить, прижать, обнять, вдвоем с головой в глубины, где тишина, прохлада. От суеты, пыли, тлена… Никогда, никому, ни за что, навеки вместе… Ах, как сладко кружится голова, как пол упруго отстает от ног ее… отстает плавно… воздуха не хватает… столько места в ее прекрасной груди, жара…
— Отдай мне его, слышишь! — задыхалась, давилась рыданиями. — Отдай, отдай… хотя бы не навсегда, хотя бы на сколько можно, я спасу его, спасу, я чувствую это, отдай на эти дни в больнице, на эту безумную ночь, просто нечем дышать, гроза бы, что ли, черт возьми! Хотя б на этот час благой отдай, а там будь что будет, ты же видишь, что я больше не могу, не выдержу больше…
Иван Федорович ворочался-ворочался, сбивал в ком влажные от духоты простыни, подушки, пил воду из графина, кряхтел, почесывался, опять дремал, вздрагивал, просыпался и вот поднялся очень недовольный собою. Он думал: «Захочу — пойду, захочу — не пойду». Смутно догадывался, что, наверное, ждет она его в столь поздний час. Иван Федорович приоткрыл дверь, и снова закрыл, и опять приоткрыл, выглянул. До лестницы от его двери сорок шесть шагов, а там два раза по четырнадцать ступенек и сразу дверь направо, где ждет она. Он нужен ей. Всего один из пяти миллиардов на земле. «Единственный мой!» — в бреду повторяет и сквозь слезы всё видит сейчас окрашенным в единственный цвет любви своей, и, чувствуя непреодолимую потребность в немедленной жертве и уже ничего не соображая в жарком мареве истомы, только б лететь, лететь все выше, выше… она бормочет сперва тихо, потом все громче: «Отдай, отдай и все возьми — его только отдай…» Иван Федорович, гримасничая, сделал шаг, другой, поколебавшись, третий и пошел, пошел… Скорей, скорей, скорее! Но — ах! — споткнулся он, схватился за гладкую стенку… Тамара же Сергеевна сразу опомнилась и на колени опустилась тихо-тихо, лицо закрыла, прошептала: