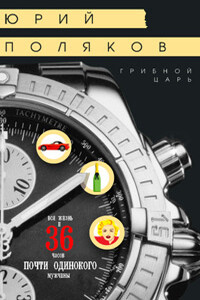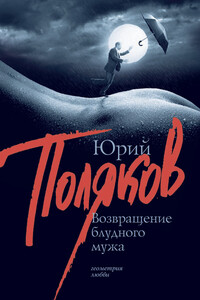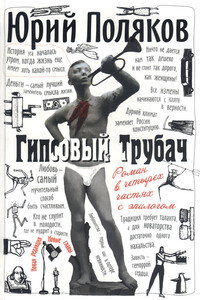Быть русским в России | страница 87
Но это ещё не всё: книги, обнаруженные мной на лауреатской полке, широко рекламируются, у них лучшие выкладки в магазинах, по ним заставляют писать тотальные (почему, кстати, не всеобщие?) диктанты, забыв исправить грамматические ошибки авторов. Затем их переводят и выпускают за границей за казённый счёт с помощью Института перевода, существующего при Роспечати. Читают такие романы за рубежами и думают: так, значит, Россия и есть на самом деле империя зла, а мы сомневались, надо бы ещё санкций подбавить! Я дебютировал в своё время острыми повестями «ЧП районного масштаба» и «100 дней до приказа», которые некоторое время не пропускала в печать цензура, я всей душой за правду и против запретов. Но правда и автофобия – вещи разные. На Лондонском книжном салоне после выступления членов российской делегации кто-то из местных книголюбов меня спросил: а что, в России все писатели так не любят свою страну? Нет, разумеется, не все, большинство любит, но по какому-то странному стечению обстоятельств их не посылают на ярмарки, книги тех, кто талантливо продолжает традиции Фёдора Абрамова, Василия Белова, Валентина Распутина не доходят даже до длинных премиальных списков. Любопытная подробность: когда в 2001 году я возглавил ЛГ, то обнаружил, что Распутин и Белов не упоминались в ней с 1991-го. 10 лет! В газете эту несправедливость быстро поломал. Кто поломает странную премиальную систему?
Этот перекос меж тем норовит перекинуться в школу. Когда обсуждали список книг для школьного внеклассного чтения, я спросил представителя Академии образования с трепетной фамилией Ланин, почему так много авторов-эмигрантов, причём не первой волны, когда людей выбросила из страны грозная стихия революции, а третьей и четвёртой волн, тех, кто сознательно выбрал себе иную цивилизационную среду обитания. Может быть, школьнику вместо страдающего онтологическим похмельем Довлатова лучше почитать сначала Конецкого, писателя не менее талантливого, острого, искромётного, но к тому же ещё и капитана дальнего плавания? И вдруг госчиновник стал стыдить, что я-де не понимаю драмы творческих метаний. Да понимаю я, сам иной раз с утра так страдаю и мечусь, не хуже Довлатова. Но мы кого растить собираемся, дорогая Академия образования, – эмигрантов, которые сидят на чемоданах и ждут оказии, или тех, кто будет обновлять Россию?
Увы, современная российская литература во многом отстранилась от того, чем живёт общество. Причин несколько, но главных две. У нас традиционно литературный процесс развивался в системе Союза писателей, который был самым влиятельным творческим сообществом в стране, однако в середине 1990-х Союз почти на четверть века впал в обидчивую летаргию, на что были причины объективные и субъективные. И те и другие теперь в прошлом. Сейчас Союз писателей России возглавил новый энергичный лидер прозаик Николай Иванов, и дело сдвигается с мёртвой точки. Но, увы, одной энергии недостаточно. Сегодня для нашего государства любой творческий союз мало чем отличается от Гильдии любителей художественного свиста или Конгресса любителей длинношёрстых свинок. За два десятилетия было несколько неудачных попыток разработать и принять закон о творческой деятельности и творческих союзах. Дважды проект такого закона уплывал в горние выси наших законодательных структур, но назад, как Экзюпери, не возвращался. Поверьте, такой закон кровно необходим для нормального развития отечественной культуры, но особенно он поможет отечественной словесности, ибо дезинтеграция писательского союза зашла слишком далеко. Мы очень рассчитываем на вашу поддержку, уважаемые сенаторы!