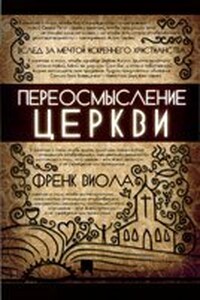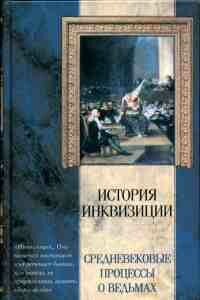История ислама в России | страница 156
Догматическое понимание социологических построений К. Маркса и Ф. Энгельса советскими общественными деятелями и опосредованное этим представление о единой схеме всеобщего исторического процесса породили тенденции рассматривать «восточные» общества через призму закономерностей, в которые вписывалась лишь история Западной Европы. Это значительно ограничивало потенциал гуманитарных наук в СССР. Поэтому вместо того, чтобы действительно исследовать историю «восточных» обществ, ее ход просто подгонялся под заочно разработанную пятиступенчатую схему из «формаций», отражавших этапы «классовой борьбы». Не было никаких национальных историй, историй культур, была только история «развития способов производства», отражавшаяся в смене постоянно противостоящих друг другу «эксплуатирующих» и «эксплуатируемых» классов. В том числе изучение условий и причин возникновения ислама, трансформации его понимания в разные периоды, в разных регионах, у разных народов сводилось к попыткам объяснения возникновения тех или иных течений через «классовый антагонизм». С этих позиций образ любого исторического деятеля мог быть искусственно подогнан под «типичного представителя господствующей верхушки» (понятное дело, всегда оцениваемой негативно), либо под «выразителя интересов угнетенных масс». Объяснение любых народных движений, восстаний и т.д., возникновения идейных течений подавалось через представления о борьбе какого-либо «угнетенного класса» против «эксплуататоров». И только установление советской власти преподносилось как самое светлое и значимое событие в истории вообще.
Понятно, что в этих условиях не могло идти речи ни о каком религиозном образовании и углубленном изучении вопросов богословия, кроме как тайно, в совершенном сокрытии и конспирации от широкой общественности и, тем более, властей. На официальном же уровне даже Коран исследовался лишь как источник по социальной истории и, разумеется, в рамках заданной схемы. Исключение составлял возрожденный в 1944 г. Восточный факультет Ленинградского государственного университета, где Коран изучался как литературный памятник арабского языка, что являлось предметом особой гордости представителей этой школы арабистики.
Учитывая опыт утраты влияния ЦДУМ и высокий авторитет Э. Бабахана, бывшего в состоянии мобилизовать мусульманское население Средней Азии, Среднеазиатское Духовное управление (САДУМ) неофициально рассматривалось правительством как наиболее значительное, хотя, разумеется, все они были автономны по отношению друг к другу и имели собственную юрисдикцию. В 1945—1946 гг. обсуждался проект «единого религиозно-административного центра» советских мусульман на основе САДУМ, когда председатели основных ДУМ были бы лишь его заместителями на местах. Это могло облегчить как внутреннюю координацию, так и более активное участие мусульман в советской внешней политике. Однако на деле такая мера по поддержке мусульман советским руководством, как показывает указание, данное в 1948 г. Советом Министров СССР Совету по делам религиозных культов (СДРК), задумывалась в рамках охлаждений отношений с Израилем, что вытекает из самого этого документа, где также говорится о запрете создания всесоюзного центра иудеев.