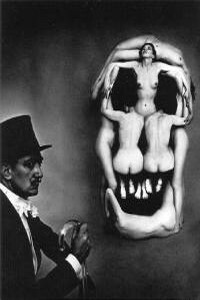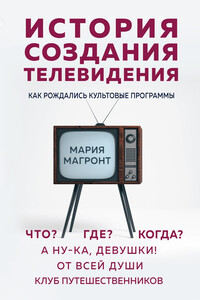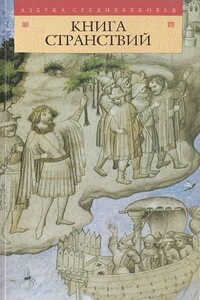Философия нагуа | страница 51
Другая очень важная идея содержится в третьей и четвертой строках поэмы: человек — это существо, не знающее покоя, он отдает свое сердце всякой вещи (ти-мойол сесенмана) и, идя без определенного направления (агуикпа), губя свое сердце, губит самого себя.
Поэтому таким неотложным выступает вопрос последней строки: на земле разве можешь ты за чем-либо гнаться? (Ин тлалтикпак кан мач ти итлатиу?), что в дословном переводе ставит вопрос о возможности найти что-либо способное удовлетворить сердце (все существо) человека, здесь «на земле» (ин тлалтикпак). Это термин, который, как мы увидим, часто противопоставляется сложному идиоматическому выражению топан, миктлан, (то, что [находится] над нами, в области мертвых), то есть потусторонность. Тлалтикпак (то, что на земле) — это, следовательно, то, что находится здесь, что изменяется, то, что все мы видим, что явственно.
Поскольку еще преждевременно пытаться проникнуть в значение этой пары противоположных понятий, мы лишь отметим подлинный смысл открытой нагуаской мыслью проблемы, касающейся ценности вещей в изменчивом мире тлалтикпака.
В других текстах этого же собрания, еще более углубляя вопрос о необходимости найти что-то действительно ценное в тлалтикпаке (на земле), открыто ставится вопрос о цели человеческой деятельности:
Куда мы пойдем?
Мы приходим сюда, чтобы только рождаться.
А наш дом там:
где находится место для лишенных плоти{[110]}.
Я страдаю: никогда к моей радости не приходило счастье.
Разве я пришел сюда лишь, чтобы действовать напрасно?
Не здесь то место, где делаются вещи.
Действительно, здесь ничто не зеленеет:
распускает свои цветы несчастье{[111]}.
Как показывают цитированные строки, а подобных строк можно было бы привести много, мыслители нагуа, ощущая угнетающую реальность страданий и необходимость объяснения своей жизни и своих дел, которым из-за ожидаемого конца пятого солнца грозит уничтожение, вместе с чем погибло бы и все существующее{[112]}, стремились найти всему этому рационалистическое объяснение. К убеждению в том, что все неизбежно должно погибнуть, добавлялось глубокое сомнение относительно того, что может быть по ту сторону, а это приводило к постановке вопросов, подобных следующим:
Разве цветы пойдут в область смерти?
Там мы мертвы или еще продолжаем жить?{[113]}
Где область света, раз скрывается тот, кто дает жизнь?{[114]}
Эти вопросы уже открыто содержат в себе недоверие к мифам, говорящим о потусторонности. Те, кто их ставит, не удовлетворены ответами, которые дает религия. Поэтому они сомневаются и допускают наличие проблемы, желают более ясно видеть, какова судьба человеческой жизни и, следовательно, какое значение имеют его земные старания. Если на земле ничто не цветет и не зеленеет, кроме несчастья, и если потусторонность это таинственность, то не уместно ли спросить, что же в действительности представляет собой наша жизнь, при которой все существует лишь на мгновение, чтобы затем разрушиться, разбиваясь на куски и исчезая навсегда.