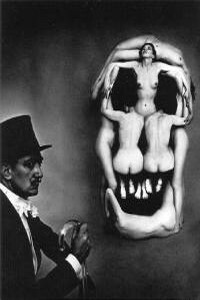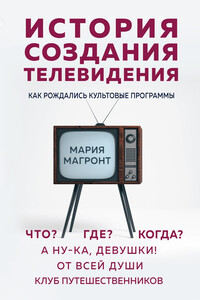Философия нагуа | страница 13
II
В некоторых из первых хроник и историй мы прежде всего встречаем многочисленные намеки на существование у нагуа ученых или философов. Так, например, в «Происхождении мексиканцев» утверждается, что «писателей или ученых, или, как бы мы о них сказали, людей хорошо разбирающихся в этих вопросах... много... но много еще и других, не осмеливающихся проявить себя...»{[11]} Имеются также ссылки на это в историях и рассказах Саагуна, Дурана, Ихтлилхочитла, Мендиэты, Торквемады и т. д.{[12]}
Хотя эти свидетельства и имеют большое историческое значение, они все же не могут служить источниками для изучения того, что мы называем философией нагуа в строгом смысле, так как не всегда содержат теории и учения тех, о которых говорится как об ученых и философах. Следовательно, необходимо обратиться к более непосредственным источникам, в которых точка зрения индейцев выражена ими самими на их собственном языке. Таковыми являются приведенные ниже источники.
Свидетельства информаторов Саагуна на языке нагуатл
Мы имеем в виду тексты нагуа, собранные Саагуном (начиная с 1547 года) в Тепепулко (Тецкоко), Тлателолко и Мехико со слов старых индейцев, которые повторяли то, что они выучили наизусть в своих школах Калмекак и Телпочкалли. Среди огромного нагромождения собранных материалов имеются целые разделы, касающиеся мифологическо-религиозного мировоззрения нагуа, а также ученых или философов, их мнений и теорий. Луис Николау Д'Олвер дает следующее краткое описание того, каким образом осуществил Саагун сбор этого материала:
«После зрелого размышления и тщательного анализа Саагун составляет вопросник, «список», как он говорит, всех общих положений, касающихся материальной и духовной культуры ацтекского народа, представляющий собой основу того исследования, которое он намеревается осуществить. Затем отбирает самых надежных информаторов: старцев, воспитывавшихся во времена древней империи и живших в ней в свои лучшие годы и, следовательно, способных знать традиции, и людей правдивых, чтобы не искажали эти традиции. Он просит отвечать в самой обычной для них форме, к которой они привыкли, — посредством их рисунков; при этом он старается вызвать повторение одних и тех же понятий, но различными оборотами и словами. Наконец, сравнивает и очищает информацию, сопоставляя материалы, полученные в Тепепулко, Тлателолко и Мехико, а также используя «трехъязычных» из колледжа Санта Крус, которые описывают на языке нагуатл содержание рисунков и дают одновременно их перевод на романский или латинский языки. Таким образом, наш автор, как замечает Хименес Морено, «сам того не зная, следовал наиболее строгому и требовательному методу, — методу антропологической науки»{[13]}.