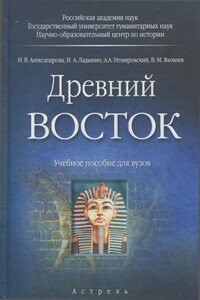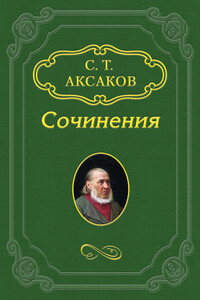Гражданская война Валентина Катаева | страница 2
«Все дело было в том, чтобы врать. Я глазом не моргнул…» – это и есть тот фактический девиз, под которым Катаев провел почти всю свою жизнь в советской литературе и Советской стране.
Забегая вперед, скажем сразу, что идеология большевизма, как и готовность большевиков во имя торжества их «высшей справедливости» нести людям стеснения, страдания и смерть поперек справедливости обычной, были Катаеву совершенно чужды; мерил он большевизм (как и все прочие насильнические раестроительства 20 века) именно этой его манерой и соответствующую цену ему про себя всегда сознавал превосходно. А порой и не только про себя. В «Уже написан Вертер», который был действительно написан «уже» – в 1980, когда ему было опять-таки «уже» почти все дозволено, в качестве воплощения и тестимониума мирового зла вводятся «миллионы человеческих тел, насильственно лишенных жизни за одно лишь последнее столетие в результате войн, революций, политических убийств и казней…» - далее следует окончание списка, с упомянутым по заслугам освенцимом и дежурными хиросимами и нагасаками.
«Миллионы тел, лишенных жизни». Не людей, а «тел». Это не случайная проговорка: Катаев был последовательный и крайний антитрансценденталист. Вот уж для кого существовало только «земное» и «человеческое», вот уж кто не стал бы ни о чем судить суб специе этернитатис, как и суб любой другой «высшей», надчеловеческой, всемирно-исторической, религиозной или гегельяноидно-прогрессистской специи. В рассказе «Ночью», написанном летом 1917 года о недавно пережитом на Румынском фронте, Катаев вспоминает о разговоре с товарищем по отступлению:
«Я посмотрел на его грязное, изможденное лицо, худую, залитую снизу грязью шинель и сказал:
- Какая ложь!
- Что ложь? - спросил Блох.
- Да все! - сказал я. - Вы слыхали "Двенадцатый год" Чайковского?
- Слыхал.
- Какая мерзость!
Меня душила злоба.
- Красота, красота!.. Неужели же и эту дрянь, вот все это - эти трупы, и вши, и грязь, и мерзость - через сто лет какой-нибудь Чайковский превратит в чудесную симфонию и назовет ее как-нибудь там... "Четырнадцатый год"... что ли! Какая ложь!»
В «Траве забвения», написанной десятки лет спустя, Катаев описывает чувства полуавтобиографического героя, окидывающего взглядом мир где-то под советской Балтой начала 1921 года:
«И все это – как ни странно – казалось ему прекрасным, величественным, как произведение небывалого революционного искусства, полное божественного смысла и нечеловеческой красоты.