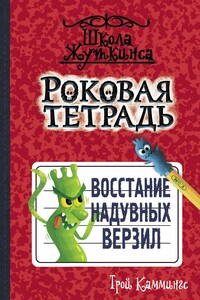Веселые ваши друзья | страница 9
Что ж, может быть, в довоенные годы, когда этот термин только возник, детская юмористика и впрямь являла собой нечто неполноценное. Но сегодня он имеет полное право на существование. Во-первых, детские юмористы действительно существуют (и мы своей книгой стремимся доказать это!). А кроме того, за это время стало ясно, что юмористика для детей вовсе не обязана строиться на одном юморе. Смех ради самого смеха, смех по принципу: чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало, — это еще не детская юмористика! Даже в самой смешной книжке, хотя бы и детской, юмор должен быть лишь одним из главных средств художественного воздействия. Одним из главных, но отнюдь не единственным! Если у ребенка, прочитавшего книжку, не будет затронута в душе ни одна струна, кроме чувства юмора, — подобная книжка, конечно же, очень мало будет весить на весах искусства.
В чем сила юмора
В 1937 году журнал «Детская литература» проводил дискуссию о юморе в литературе для детей. Одним из выступавших в дискуссии был Л. Пантелеев. «… Смех — это великая сила, — писал он. — Это не только бич, кнут или средство борьбы с врагом — это помощник и друг искусства».
Глубоко убежденный в этом, Пантелеев на протяжении всего своего творчества не прибегает к сатирическому смеху. Любимое его средство — юмор. «В чем сила юмора? — рассуждает он. — Я думаю, прежде всего в том, что юмор предполагает в предмете или человеке, против которого он направлен, какую-то погрешность, какое-то несовершенство. Несовершенство же, как мы знаем, — извечное свойство человеческой природы. Юмор придает человеку человечность».
И естественно, что в творчестве писателя, одной из главных тем которого (если просто не главной темой!) является пробуждение человечности в человеке, юмор занимает постоянное и почетное место.
Истинный сын Шкиды
Он смешной, этот юмор. Порой даже очень. Но под шуткой, насмешкой, иронией Пантелеева всегда таятся любовь и уважение к человеку. Именно таятся: такой уж, видно, человек Пантелеев, что даже самую пылкую любовь, самое высокое уважение он просто не умеет выражать открыто — они всегда только угадываются, лежат на некоторой глубине. Возможно, тут сказывается природная застенчивость Пантелеева, которая заметна и в его художественных, почти всегда автобиографичных произведениях, да и по прямым его высказываниям. В воспоминаниях о М. Горьком, относящихся к 1928 году и опубликованных под названием «Рыжее пятно», Пантелеев, говоря о застенчивости самого Горького, в свою очередь признается: «В ту пору я тоже был застенчив, но это была совсем другая, совсем не горьковская и совсем уж не милая, а какая-то нелепая и даже болезненная застенчивость. Тому, кто знаком хоть немного с моими автобиографическими книжками, это может показаться странным, но я и в самом деле — и именно в эти, юношеские годы — был робок и застенчив, как маленькая девочка. Я стеснялся зайти в магазин, краснел, разговаривая с газетчиком или с трамвайной кондукторшей. В гостях я отказывался от чая, так как был уверен, что опрокину стакан, а в обществе, где присутствовал хотя бы один незнакомый мне человек, я никогда не мог произнести двух слов, более значительных и интересных, чем „да“ или „нет“».