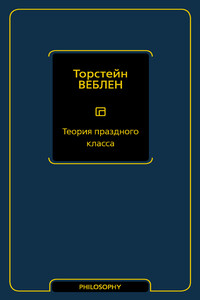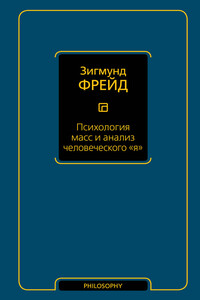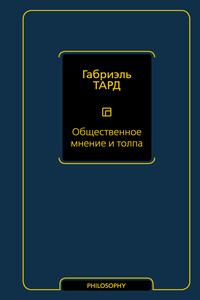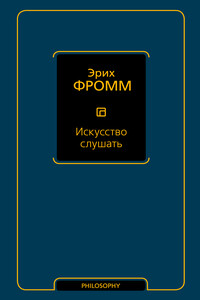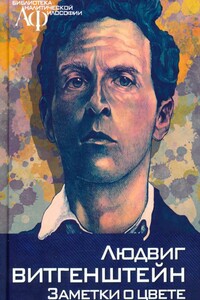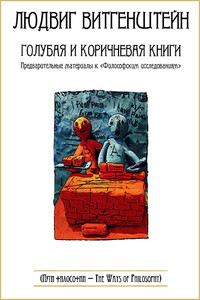Логико-философский трактат | страница 50
Мир описан полностью, если известны все атомарные факты и если они известны все без исключения. Мир описывается не просто поименованием всех его объектов; также необходимо знать атомарные факты, из которых состоят эти объекты. Когда задана совокупность атомарных фактов, всякое истинное суждение, сколь угодно сложное, теоретически может быть выведено. Суждение (истинное или ложное), утверждающее атомарный факт, называется атомарным суждением. Все атомарные суждения логически независимы друг от друга. Никакое атомарное суждение не подразумевает другого и не является несовместимым с другими. Таким образом, логический вывод оперирует суждениями, которые не являются атомарными. Подобные суждения можно назвать молекулярными.
Витгенштейновская теория молекулярных суждений накладывается на его же теорию построения истинностных функций…
Остановимся на одном положении фундаментальной теории Витгенштейна, а именно на его утверждении, что невозможно что-либо сказать о мире в целом и что все, что может быть сказано, будет касаться лишь конкретных частей мира. Возможно, этот взгляд обусловлен символической логикой, и если так, в его пользу говорит то, что корректная символическая нотация обладает убедительностью живого наставника. Встречающиеся в нотации нерегулярности являются первым признаком философских ошибок, а совершенная нотация представляет собой замену мыслительного процесса. Но хотя символика, вероятно, подсказала г-ну Витгенштейну, что логика ограничена частями мира и не распространяется на мир в целом, тем не менее этот взгляд подлежит существенному уточнению и дополнению. Со своей стороны, я не готов поручиться за истинность данного утверждения. Я намерен лишь уточнить его, но никак не подытожить. Согласно этому воззрению, мы способны сказать что-либо о мире в целом, лишь очутившись за его пределами, так сказать, если он перестанет быть для нас целым миром. Для некоего высшего существа, способного обозреть его целиком, наш мир покажется ограниченным, однако для нас этот мир, каким бы ограниченным он ни был, не может иметь пределов, поскольку вне его ничего нет. Витгенштейн использует в качестве аналогии поле зрения. У нашего поля зрения, с позиции смотрящего, нет границ просто потому, что нет ничего за его пределами; подобным же образом наш логический мир не имеет логических границ, поскольку логика ничего не знает о том, что есть за его пределами. Эти размышления приводят к довольно любопытным рассуждениям о солипсизме. Логика, говорит он, наполняет мир. Границы мира являются также границами логики. Поэтому в логике нельзя сказать, что то-то и то-то есть в мире, а этого нет; чтобы сказать так, мы должны заведомо исключить некие возможности, а это недопустимо, поскольку в таком случае логика должна была бы выйти за пределы мира и проанализировать эти пределы с другой стороны. То, чего нельзя помыслить, немыслимо, и потому нельзя высказать того, что невозможно помыслить.