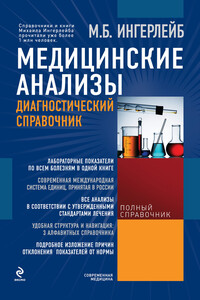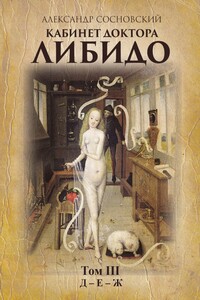Таинство Исповеди. Как научиться каяться и перестать прятаться от Бога | страница 44
Бывает, спрашиваешь: «Вы Евангелие читали?» – «Да, читал». – «И что, вы живете строго по Евангелию?» – «Да». – «То есть вы всегда поступаете вот так и так?» – «Нет, но я стараюсь». – «У вас всегда получается?» – «Нет, не всегда, но я же стараюсь». И не пробиться через эту броню самооправдания…
А некоторые приходят на исповедь и рассказывают: «Я делаю это, делаю это, делаю то… словом, я живу по-христиански». – «Минутку, а на исповедь вы с чем пришли?» – «Как? Рассказать обо всем этом». Конечно, возникает вопрос, с какими требованиями человек сам к себе подходит, насколько всерьез относится к своей жизни, чего он от себя ожидает и что в принципе считает жизнью христианской?
Священник – не «государственный обвинитель», он призван пробудить в душе пришедшего на исповедь покаянное движение к Богу – то, без чего христианская жизнь никогда не начнется. Да, иной раз приходится расспрашивать, иногда – проходить по тому списку грехов, который есть в Требнике (поновления – так раньше назывался этот список), когда ты понимаешь, что, не сделай ты этого, человек уйдет неисцеленным и с отягченной совестью. Но инициатива на исповеди все-таки должна принадлежать кающемуся, священник может только чуть-чуть его направить. В конце концов, апостолы не гнались за каждым грешником, требуя от него покаяния. Нет, они проповедовали Евангелие Царствия, и кто-то откликался, а кто-то – нет. Они лишь могли засвидетельствовать, что грешная жизнь противна Богу, ведь и Христос говорил фарисеям:Горе вам!и объяснял почему (см.: Мф. 23:13–32) – остальное оставлено на усмотрение самого человека. И в отношении исповеди действует тот же принцип: как мы не должны никого насильно спасать, так не должны и насильно исповедовать, подводить к осознанию греховности. Мы только встречаем человека и стараемся как-то его пробудить, не более того.
Исповедь как работа над ошибками
Исповедь – непременное условие христианской жизни, потому что все мы грешим и все нуждаемся в покаянии. Но она бывает правильной, когда сама христианская жизнь – правильная, нормальная, полноценная. Нет ее – будет или «плетение словес», или полное молчание, или разговор о чем-то, совершенно не связанном с покаянием. А если есть начаток христианской жизни, то из него родится исповедь. И благодаря этому, пусть пока несовершенному, покаянию исправляется человек, а по мере исправления меняется и его исповедь.
Помню, когда-то в разговоре с отцом Кириллом (Павловым) я сказал, что содержание жизни монаха – это покаяние, на что он возразил: «Нет, это неправильно. Содержание жизни и цель монаха, и христианина, конечно, – это обретение смирения. А покаяние – один из путей, ведущих к смирению». Смирение дает человеку познание Бога и то откровение таинств, которого не доставит ему больше ничто в этом мире.