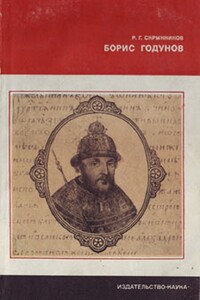Дуэль Пушкина | страница 93
В Петербурге, утверждал П.Е. Щёголев, Наталья Николаевна жила и дышала царившей в салонах атмосферой пошлого ухаживания; её духовная природа была бедна, и заменой ей служил светско-любовный романтизм; духовная жизнь сводилась «к области любовного чувства на низшей стадии развития»[419]. Уничтожающий отзыв был продиктован стремлением исследователя изобличить быт и нравы паразитического российского дворянства. Но у Пушкина и его современников был иной взгляд. Они преклонялись перед красотой. Поэт придавал большое значение успеху жены в свете и с видимым волнением наблюдал за её первыми шагами в петербургском обществе.
25 октября 1831 г. одна из самых блистательных дам Петербурга Долли Фикельмон представила Натали свету. Долли не преминула описать внешность красавицы: «…лицо Мадонны, чрезвычайно бледное, с кротким, застенчивым и меланхолическим выражением».
Фикельмон увидела в Наталье ту самую черту, которая всего более пугала Пушкина в дни сватовства: «спокойное безразличие её сердца». В глазах поэта это было главной помехой к счастью избранницы, а значит и к счастью супругов в семейной жизни.
Контраст поразил Долли. Она записала в дневнике: «Жена его прекрасное создание; но это меланхолическое и тихое выражение похоже на предчувствие несчастия у такой молодой особы. Физиономии мужа и жены не предсказывают ни спокойствия, ни тихой радости в будущем. У Пушкина видны все порывы страстей; у жены вся меланхолия отречения от себя»[420].
Понятие красоты в XVIII веке подразумевало румянец во всю щёку (отсюда чудовищное злоупотребление румянами) и пышные формы. С наступлением эпохи романтизма в моду стала входить утончённость, хрупкое телосложение, бледность, знак тайных сердечных бурь. Литература поэтизировала образ мечтательной девушки «с печальной думою в очах», живущей неземными интересами. Красота Пушкиной как нельзя лучше соответствовала требованиям новой моды.
Наташа была младшей из трёх дочерей Гончаровой. Её смирение и скромность бросались в глаза. Имея право на свою долю в доходах, Натали неизменно просила у старшего брата прощения «за то, что есть нескромного» в её просьбах. Извинения лишены какой бы то ни было фальши.
Екатерина Гончарова настойчиво требовала у брата деньги. Пушкина сопровождала каждую просьбу стеснительными извинениями: «…если, конечно, это тебя не обременит, в противном случае откажи мне наотрез и не сердись…» (1833 г.); «Не сердись на мою нескромную просьбу, прямо откажи и не гневайся» (1835 г.)