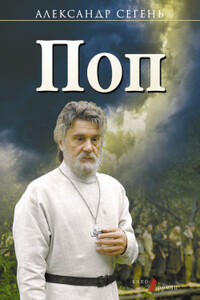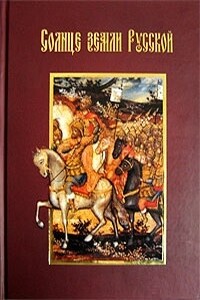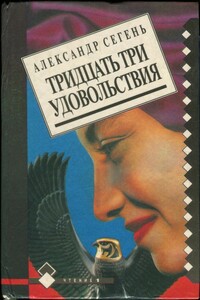Похоронный марш | страница 27
— Ну всё, ну всё, хватит, — сказал вдруг дядя Борис, которому уже надоело снимать всех в одной и той же позиции, как в ателье.
— А я?! — взвизгнул я, чувствуя, как кровь во мне превращается в сплошную пену.
— Детям дошкольного возраста нельзя, — сказал официально дядя Борис.
— А я уже же в первом классе! — крикнул я с отчаяньем.
— Не врешь? Ну садись. Игорь, подержи этого шкета тоже. Сел? Тэ-эк. А что ж такой маненький? Смотри вот сюда, — два щелчка пальцами в воздухе. — Хэрэшо, оп!
В фотоаппарате сладостно хрустнуло, и я тоже был запечатлен. От того же дня осталась еще одна фотография. Когда дядя Борис, отсняв четыре пленки, уже собирался идти домой, густой сентябрьский воздух огласили хриплые, безобразные вопли:
— Все ждала и ве-е-е-е-е-рила, сердцу вопреки, — мы с тобой два берега у одной реки…
Пьяная моя мать Анфиса шла на своих уже начавших деформироваться от алкоголя ногах, кренясь и извергая звуки песни. Подойдя ко всем, она хоть и пьяная, а поняла, что Борис только что всех снимал. И тогда, криво подбежав к Нине Панковой, она обхватила ее сзади костлявыми руками и задорно скомандовала:
— Чпокни нас, Боря, с Нинулей в обнимку.
Наступило молчание, дядя Борис замялся и уж готов был сказать, что у него кончились пленки, как в тишине прозвучал тихий и мягкий голос тети Нины:
— Сфотографируй, Борис.
И он принялся отвинчивать футляр. Мать перестала дышать, сделала серьезное лицо, расправила морщины на лбу, и вот теперь она смотрит на меня с этой фотографии совершенно трезвая, и сквозь зловещую тишину моей к ней ненависти я улавливаю в ее взгляде трагическую мольбу, полную винных испарений и скорби: «Прости, сынок!» И особенно я чувствую виноватость этого бесовского взгляда на фоне глаз тети Нины, теплых и безгрешных глаз многотерпения. Точно такими же глазами, глазами своей хозяйки, смотрела на дядю Бориса Джильда, когда он сидел на скамейке, злобно пьяный, и плевал ей в эти самые глаза, говоря:
— Тьфу, слюнявая морда! Опротивела ты мне, дура криволапая! И ты, и хозяйка твоя. Возьму и зарублю вас обеих топором. Ее топором, а тебя — на живодерню.
Я видел это и глубоко верил, что тот дядя Борис, который меня фотографировал, совсем иной человек, не этот негодяй. Просто в один погожий сентябрьский денек некий легкий дух попросил у дяди Бориса за трояк его тело — дай поносить, завтра верну. Я помню мягкий свет, из которого была соткана субстанция этого духа — он струился из антрацитового окошечка объектива и осенял наши детские головы, заросшие чертополохом вихров. И долго еще он сидел тогда в воздухе загустевшей осени, светлый и теплый след чудесного посещения, покуда не издырявил его октябрьский дождь, не согнал ополоумевший ветер предзимья. Небо от того ветра тлело в глазах смертельным зеленым блеском, и в струи того ветра вливались пугливые старушечьи шептания — а Борис-то, Борис… вчера и не пьяный-то, а как озорничал… Нинке всё: «Гадина, такая-сякая!» — и всё матом, всё матом… гляди, убьет он ее под скорую руку-то!