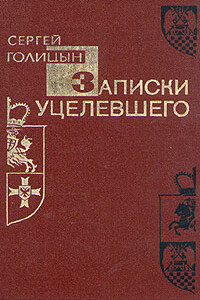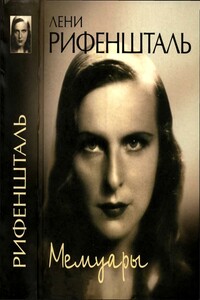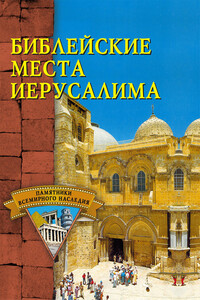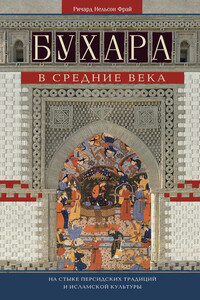Солнечная палитра | страница 20
Но серьезным Савва Иванович бывал не так уж часто. Как-то он задумал поставить спектакль. Выбор пал на «Женитьбу» Гоголя. И на целую неделю мамонтовский дом превратился в театрально-портновскую мастерскую. Дети были выпровожены на антресоли, дамы под руководством Елизаветы Григорьевны занялись шитьем костюмов. Савва Иванович вызвался быть режиссером; проходил роли то с одним доморощенным артистом, то с другим, хлопотал, бегал, распоряжался на репетициях.
После «Женитьбы» решили удивить итальянцев карнавальным шествием по улицам Рима. Опять засели за шитье костюмов, принялись разучивать песенки.
Василий Дмитриевич, попав в этот круговорот, так всем этим увлекся, что забыл и думать про живопись.
Он занялся совсем новым для себя делом — изобретал эскизы костюмов, писал декорации, превращался на время в музыканта.
Но не одно веселое времяпрепровождение захватило его. В доме Мамонтовых он познакомился с восемнадцатилетней Марусей Оболенской. Все ему нравилось в ней: и то, что ее звали так просто по-крестьянски — Марусей, и ее живые черные, слегка выпуклые глаза, и матовый цвет лица. Глядя на нее, любуясь ею, Василий Дмитриевич забывал все на свете.
Мать Маруси, Зоя Сергеевна, благосклонно относилась к молодому художнику из столь порядочной семьи; с улыбкой она подзывала его, спрашивала:
— Monsier Basile, что вы сейчас пишете? Как ваши успехи в живописи?
— Подвигаются, — неопределенно отвечал Василий Дмитриевич.
Что он мог еще ответить?
Зоя Сергеевна звала его в гости. Василий Дмитриевич приходил, сидел, краснел, разговаривая с Марусей, и Маруся, отвечая ему, тоже заливалась румянцем.
А порой он просыпался по ночам. Словно таинственный голос будил его: «Опомнись, очнись, ведь ты же художник!»
Что он сделал за целый год? Начал картину из германской средневековой жизни, но она никак не давалась ему, и он ее забросил.
Здесь, в этом же Риме, двадцать лет назад творил другой художник — Александр Иванов. Он отказался от всех удовольствий, жил в тишине одинокой творческой жизнью аскета.
«Неужели и мне, — спрашивал Василий Дмитриевич самого себя, — тоже нужно отрешиться от друзей, отказаться от всех радостей, даже от любви к Марусе?»
Он вспомнил о своем друге Репине, который недавно поселился в Париже, и ему захотелось поделиться с ним своими мыслями.
«Вдруг я попал в такую круговоротную струю, — писал он Репину, — что совершенно завертелся в суете мирской, а о своем собственном аскетическом подвиге и забыл… Теперь уж не знаю, оставаться ли в Риме или удрать. Художник, пока работает, должен быть аскетом, но влюбленным аскетом и влюбленным в свою работу, и ни на что другое свои чувства не тратить…»