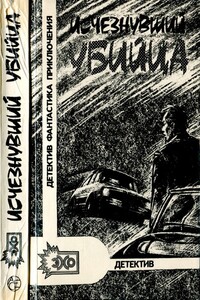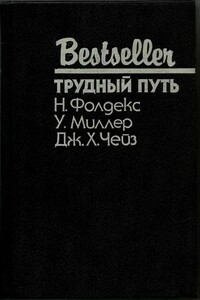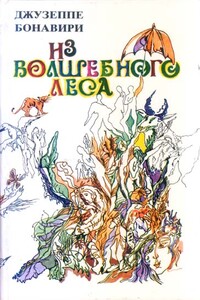Окрылённые временем | страница 38
Ее не допрашивали, никто ее не вызывал, о ней точно забыли. Понемногу она начала размышлять. И вдруг точно книга раскрылась перед ней: все стало ясно. Тот, кудрявый, в вышитой рубашке, был действительно Валька, убийца: она не ошиблась. . Боясь, что она донесет, он поторопился оговорить ее: карандашная записочка была его доносом. .
Ольга Вячеславовна могла сколько угодно метаться, как пума, по одиночной камере: на ее страстные просьбы (в глазок двери) видеть начальника тюрьмы, следователя, прокурора угрюмые тюремные сторожа только отворачивались. В исступлении она все еще верила в справедливость, придумывала фантастические планы – раздобыть бумаги и карандаш, написать всю правду каким-то высшим властям, справедливым, как бог.
Однажды ее разбудили грубые, отрывистые голоса, грохот отворяемой двери. Кто-то входил в соседнюю камеру. Там был заключен человек в очках, – про него она знала только, что он надрывающе кашляет по ночам.
Вскочив, она прислушалась. Голоса за стеной поднимались до крика нестерпимые, торопливые. Надорвались, затихли.
В тишине послышался стон, будто кому-то делали больно и он сдерживался, как на зубоврачебном кресле.
Ольга Вячеславовна прижалась к углу, под окном, безумно расширив глаза в темноту. Ей вспомнились рассказы (когда сидела в общей) о пытках... Она, казалось, видела опрокинутое землистое лицо в очках, дряблые щеки, дрожащие от муки... Ему скручивают проволокой кисти рук, щиколотки так, чтобы проволока дошла до кости...
«Заговоришь, заговоришь», – казалось, расслышала она...
Раздались удары, будто выколачивали ковер, не человека..
Он молчал.. Удар, снова удар. . И вдруг что-то замычало. .
«Ага! Заговоришь!..» И уже не мычание – больной вой наполнил всю тюрьму... Будто пыль от этого страшного ковра окутала Ольгу Вячеславовну, тошнота подошла к сердцу, ноги поехали, каменный пол закачался – ударилась о него затылком. .
Эта ночь, когда человек мучил человека, закрыла тьмой всю ее робкую надежду на справедливость. Но страстная душа Ольги Вячеславовны не могла быть в безмолвии, в бездействии. И после черных дней, когда едва не помутился разум, она, расхаживая по диагонали камеры, нашла спасение: ненависть, мщение. Ненависть, мщение! О, только бы выйти отсюда!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Подняв голову, она глядела на узкое окошечко; пыльные стекла позванивали тихо, высохшие пауки колебались в паутине. Громовыми раскатами вздыхали где–то пушки.