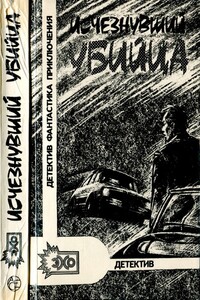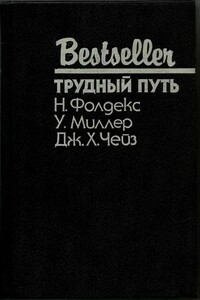Окрылённые временем | страница 15
Он начал разговор так приблизительно:
«Помните, товарищ Хотяинцев, работу в клубе, доклады, спектакли, концерты? Какие были ребята! Как все горели! Незабываемое, счастливое время».
Мы стали вспоминать товарищей, походную жизнь.
Горячо вспоминали. Он отвернулся и, как мне показалось,
вытер глаза рукавом. «Упал я с коня в грязь, в колею, полк ушел, а я сижу в грязище – вот мне так представляется, –
сказал он с большой горечью. – За один день сегодня такой гадости нахлебался – жить неохота. Мещанство. Житьишко. Семечки грызут за воротами. Да, да, товарищ Хотяинцев, отстучали копыта наших коней. Улетели великие годы. Счастливы те, кто в земле догнивает...»
Я, помню, посмеялся тогда над ним. «Вы, говорю, товарищ Буженинов, стихи, что ли, пишете? Уж очень у вас жалобно выходит». Он мне тогда с еще большим напором:
«Взрыв нужен сокрушающий... Огненной метлой весь мусор вымести. Тогда было против капиталистов да помещиков, а теперь против Утевкина.. Я, говорит, вам расскажу, как Утевкин сегодня печенку ел». И стал в лицах представлять какого-то своего знакомого.
Я вижу – действительно у него пошло на серьез. «Ваши, говорю ему, настроения, товарищ Буженинов, у нас под категорию подведены, это не ново, так рассуждать не годится. Пока вы в седле, в руках винтовка, за холмом зарево пылает, – этот час революции весь на нервах, на эмоциях, на восторге. Скачи, руби, кричи, во весь голос – романтика!
Взвился рыжий конь и понес. А вот впряги коня, скакуна, в плуг – трудно: полета нет будни, труд, пот. А между тем это и есть плоть революции, ее тело. А взрыв – только голова.
Революция – это целое бытие. От взятия Зимнего дворца до тридцати двух копеечек за аршин ситца. Вы представляете, какой это чудовищный размах, какой пафос должен быть, чтобы заставить боевого товарища с четырьмя орденами
Красного Знамени торговать баранками на базаре, где ваш
Утевкин печенку ел? Больше мужества нужно в конце концов эти баранки продавать, чем с клинком наголо пролететь в атаку. Мещанство метлой не выметешь – ни железной, ни огненной. Оно въедчивое. Его ситцем, и книгой, и клубом, и театром, и трактором нужно обрабатывать.
Перевоспитать поколения. И пройдут мучительные года, покуда у вашего Утевкина в голове не просветлеет. Для вас, поэтов, – если хотите, соглашусь, – наше время трагическое.. »
Я старался говорить с ним на его же языке. Он молчал, вздыхал, и мне показалось, что я убедил его. Во всяком случае, прощаясь, он сказал: «Спасибо. Если у меня хватит здоровья, мужества, силы – постараюсь повоевать на мирном фронте. Вы правы, это – трагедия: войти в будни, раствориться в них не могу, и быть личностью, торчать одиноко тоже не могу».