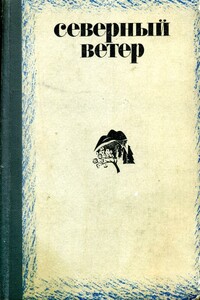Повествования разных времен | страница 40
— А что ты можешь говорить? — несли Доната невидимые злые кони, и не держал он поводьев в руках, бросил поводья. — Ты, может, и рада. Без меня-то хоть отоспишься. Да что я! Я-то не помешаю… да еще под праздники…
— А кто же помешает? — она встала из-за стола.
— Тебе виднее.
— Дурак ты, Донат! Дурак! И я еще хуже дура, что связалась с тобой!
Ушла Граня. Дверью в сердцах ударила. До утра ушла, а ты тут хоть зубы сгрызи!.. Двинул Донат сам себя кулаком в лицо — боли не почуял, только во рту солоно стало да голова закружилась. Заплакать — и то не получилось, лицо сжалось, а слеза не пролилась. Хуже нет, когда слеза внутри остается.
Зажмурил глаза, увидел: цех, ряды станков, как в киножурнале показывают, и — красивые руки Гранины, рукавами не закрытые. И — пальцы, к ее рукам прилипшие, мужские, чужие, наглые. Как у Гуртового были… Далеко Гуртовой, а не хочет уходить из памяти, вцепился. Все у него цепкое, и пальцы тоже… Ну, на фабрике-то, положим, никакого Гуртового нет. Но не одни ведь ткачихи в ночной смене там, есть и наладчики, и прочие, кому начальство не то что прогул — любой грех отпустит… Откуда знать Донату, что там и как? Не проверял! А как проверишь? Не пустят его на фабрику, к тому же ночью. К собственной законной жене, а не пустят — ночью-то!.. Вот так и живи.
И опять перед глазами такое, что дышать нечем. И нет, не придумали еще такого лекарства — остановить эту му́ку.
За какие грехи? Чем провинился он? Перед кем и в чем повинен?
А кто сказал, будто нет лекарства? Есть оно, есть! И рецепта не требуется…
Дальше — что? Дальше — мрак и мерзость. И — ничего другого…
— Не жила с пьяницей, — сказала Граня после, — и жить не стану.
И ушла к той старой учительнице, у которой прежде обитала.
Неделю оставался Донат один. На заводе ему задним числом и на несколько дней вперед отгулы оформили, за предпраздничные ночные дежурства (ради отгулов сам и напрашивался). С каждым днем все больше тянуло смирить гордыню, пойти в знакомый дом, где живет та старушка, где с нею снова Граня. Прийти и сказать: «Прости ты меня, Христа ради! Прости дурака, если можешь! Не прикоснусь больше к тому лекарству, никогда не прикоснусь!»
На девятый день переборол он себя, смирил. Встретил жену у ее проходной.
Они пошли рядом молча, не прикасаясь друг к другу. Со всех сторон — позади, впереди, справа и слева — шли люди, преимущественно женщины, шла отработавшая смена. Шли кучно, никуда не деться. Не мог Донат в тесноте людской сказать то, что просилось. И не знал, куда сейчас свернет Граня — к ним, домой, или к той старушке.