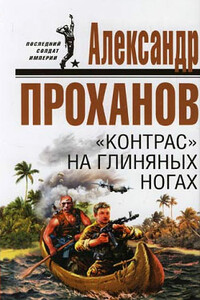Время полдень. Место действия | страница 12
— Стакан разбитый. Тут, знаете, удивительное дело, — все бьют стаканы. Инженеры бьют, футболисты, даже клоун один. Теперь за мной черед, — смеялся он.
И она, не понимая его, тоже смеялась.
— А я к вам еду. И увидела самолет из трамвая. Уже высоко. Подумала: наверное, улетел. И заходить не стоит. А потом на всякий случай зашла.
— Какое там улетел! Звонил, звонил, не мог дозвониться. Все занято, занято! Наверное, у кассира сердечный приступ. Или инфаркт, или инсульт, или что там еще?
— Да нет, просто телефонная лихорадка!
И они опять засмеялись, и она удивлялась, какой молодой, неузнаваемо свежий у него смех.
— Хотите чаю? По-московски… Крепчайший!
Не дожидаясь ее согласия, он наполнил водой свой мятый серебристый кофейник, чем-то вновь поразивший ее, что-то опять ей напомнивший. Окунул в него свитый в спираль кипятильник. Включил.
— Вот я вас сейчас напою, — радостно суетился он, извлекая из чемодана галеты, разноцветные банки с вареньем, маслом, пеструю жестянку с сахаром. — Вот и пригодились запасы! Вот он, мой первый бивак!
Уже не было на стенах ковров, а холодные вечерние тени, будто главное уже совершилось, и можно спокойней, проще.
Забулькала, закипела вода, брызгая на его книги и карты. Он кинул метко, не уронив ни чаинки, щедрую горсть заварки. И сразу потекли, заструились сладкие, горячие ароматы. Он разливал по стаканам черную клокочущую гущу, раскрывал перед ней коробки, орудуя отточенным, причудливой формы ножом.
— Не стесняйтесь, мой доктор, прошу!
Она не стеснялась. Грызла громко галеты. Охнула, ошпарив первым неосторожным глотком язык и нёбо.
— Да вы подуйте, подуйте!
И казалось удивительным его превращение.
— Смотрю на ваш кофейник. Откуда он? И у нас был похожий. Только как будто чуть повыше и носик острее. Но тоже серебряный. Едва-едва помню. По-моему, мама его в трудные времена продала.
— Кофейник? Это мой дорожный. Вожу его с собой сколько лет. Бабкин, родовой, семейный. Немного что от них уцелело. Сначала его возишь как память обо всех любимых, ушедших. Потом — как вещь, к которой привык. Которая и сама уже стала памятью о тебе самом.
— Может, Москву напомнил?
— А вы из Москвы?
Он спрашивал настойчиво. И она чувствовала к нему доверие, необъяснимое влечение и сходство. Не внешнее, а бог весть в какой глубине, бог весть в каком прошлом, — через это тусклое, остывающее на столе серебро. Радовалась, что не обманулась в догадке.
— Отец москвич, был послан сюда еще до войны, едва поженились с мамой. Работал в Караганде, на шахте. А мама, оранжерейный цветочек, потянулась за ним в Казахстан, несмотря на все отговоры. Уж это, знаете, видно, так водится на Руси, так с «Родной речью» и впитывается… Я здесь родилась, казахстанская. Отец погиб очень скоро, во время взрыва в шахте. Его не помню, только по маминым рассказам. А мама здесь музыку преподавала. И болела. Она страдала легкими, видно, климат. И сколько ни помню ее, все хворала, все куталась, все на уроки торопилась с черной нотной папкой… Я и в медицинский пошла, — думала ей помочь в детском своем сострадании. Да не успела. Когда на четвертом курсе училась, мама умерла… Распределение получила сюда, на комбинат, и года нет. Близких никого. Та родня позабыта. Нигде не бывала, ничего не видела. Только это… Вот и вся моя жизнь, вся история…