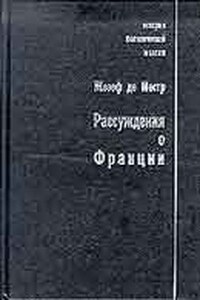Санкт-Петербургские вечера | страница 59
2. (Стр. 58. «Всякое вырождение отдельного человека или целого народа тотчас дает о себе знать строго пропорциональной деградацией языка»)
Ubicunque videris orationem corruptam placere, ibi mores quoque a recto descivisse non est dubium (Senecae Epis-tolae morales, CXIV, < 11 >).>(ll9)
Можно перевернуть эту мысль, и она останется столь же справедливой: Ubicunque mores a recto descivisse videris, ibi quoque orationem corruptam placere non est dubium.>(120) Прошлый век явил во Франции великое и печальное доказательство этой истины. Однако основательные умы видели зло и всеми силами защищали от него язык, — и нельзя еще сказать, каким будет исход. «Эмигрантский стиль»,>021 * как его некогда называли, объясняется подобным же образом. Вследствие одного из ложных поверхностных суждений, беспрестанно проникающих в царство наук, стиль этот пытались истолковать общением с иностранными нациями: вот каким образом человеческий ум напрасно теряет время, играя обманчивой видимостью и развлекаясь дурацким самолюбованием, вместо того, чтобы видимость эту разрушить и пробиться к истине. Французский протестантизм — гонимый, свободный или поощряемый — не создал и никогда не создаст ни единого памятника, способного сделать честь французскому языку и французской нации. И ничто ему сейчас не мешает уличить меня во лжи. Macte animo\>U22)
3. (Стр. 63. «Не сказал ли Платон, что „следует винить скорее порождающее, нежели порожденное"? И не прибавил ли он в другом месте, что Господь, Бог богов, узрев, как подчиненные размножению существа утратили (или разрушили в себе) „бесценный дар, решил подвергнуть их лечению, способному разом и возрождать, и наказывать"?»)
В целом эти цитаты точны. Их можно сверить по сочинению Тимея из Локр, напечатанному вместе с трудами Платона (edit. Biponti, t. X, р. 26); см. также «Ти-мей» Платона (ibid., р. 426) и «Критий» (ibid., р. 65-66). Замечу лишь, что в «Критии» Платон говорит не о «бесценном даре», а о «прекраснейших среди самых драгоценных вещей» — Τά κάλλιστα άπό των τιμώτατων άπολλύντες (ibid., in fin.).
Аббат Ле Батте>(|23) в своем переводе «Тимея» и аббат Феллер>(124) заставляют философа выражаться более определенно (см. статью «Тимей» в Историческом словаре и Философском катехизисе, т. III, № 465), но поскольку вторая часть процитированного отрывка темна, а Марси-лио Фичино,>(125) как мне кажется, лишь строил догадки, то я подражаю в осторожности участнику беседы, который в данном месте держался безусловно достоверного.