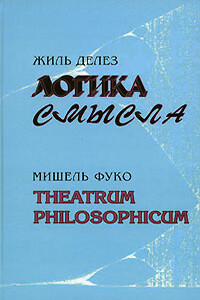Санкт-Петербургские вечера | страница 47
Гений каждого языка движется, словно живое существо, всюду выискивая для себя подходящий материал. В нашем языке, например, слово maison (дом) — по происхождению кельтское, palais (дворец) — латинское, basilique (базилика) — греческое, honnir (позорить) — германское, rabot (рубанок) — славянское,>52>>53 almanach (альманах) — арабское, sopha (софа) — еврейское." Как пришло все это к нам? Неважно, по крайней мере, сейчас: пока мне достаточно ясно вам доказать, что языки образуются только из других языков, которые они, подобно хищным животным, обыкновенно умерщвляют, чтобы доставить себе пищу. Так не будем же говорить ни о случае, ни об искусственных знаках Gallis, haec Philodemus ait>54>.>m Многое уразумеет во всем этом тот, кто как следует поразмыслит над первым моим замечанием, а именно: образование самых совершенных, глубоких и философских (во всем объеме этого термина) слов относится исключительно ко временам невежества и простоты. А в завершение этого важного уче-
ния следует добавить, что подобный дар словотворчества столь же неизбежно угасает по мере приближения к эпохе цивилизации и науки. Во всех нынешних писаниях на эту занимательную тему без конца высказываются пожелания о создании некоего философского языка — но при этом не знают и даже не догадываются, что самый философский на свете язык есть тот, в который философия вмешивалась менее всего. Двух мелочей недостает философии для того, чтобы создавать слова: разума, который их творит, и власти, которая вводит их в общее употребление. Встречает ли философия какой-то новый предмет — тут же начинает она рыться в словарях, выискивая какое-нибудь древнее или иностранное слово, — да только выходит это у нее почти всегда прескверно. Возьмем, например, слово монгольфьер — слово исконное и правильное, по крайней мере, в известном смысле. Я предпочитаю его слову аэростат, ученому термину, который решительно ничего мне не говорит: с таким же успехом и корабль можно было назвать гидростатом. Взгляните на это множество новых слов, заимствовавшихся в последние 20 лет из греческого по мере того как безумие и преступление испытывали в них нужду — почти все они образованы противно смыслу. К примеру, слово теофилантроп еще нелепее, чем обозначаемый им предмет; английский или немецкий школьник сумели бы сказать теоантропофил. Вы скажете: слово это сочинили жалкие людишки в бездарные времена, — но ведь и химическая номенклатура (а это, несомненно, творение просвещеннейших людей) открывается низкопробным солецизмом оксиген вместо окси-гон. Впрочем, даже не будучи химиком, я имею веские основания полагать, что все подобные слова исчезнут бесследно. Но и с точки зрения философии и грамматики нельзя было бы, пожалуй, и вообразить себе ничего более жалкого, если бы вслед за этими словами не явилась на свет номенклатура метрическая и не завоевала на вечные времена пальму первенства в варварстве.