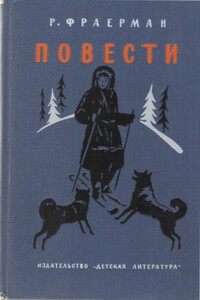Золотой Василёк | страница 31
Надя замолчала. Молчали и девочки. Может быть, и они вспомнили в эту минуту свой дом, родных людей, любимых покинутых зверей и всю милую домашнюю жизнь с ее происшествиями и мелочами, детский мир, всю прелесть которого понимает только тот, кто в этом мире находится. Кому же не приходилось хоронить любимого котенка, галчонка или воробья?
И так как это все-таки были всего лишь дети и души их были еще непорочны, они ясными и любопытными глазами смотрели на мир. Они сидели молча и как будто всматривались в печальную мордочку больной обезьянки; и еще думали о том, как грустно стало Наде и Мане без обезьянки и как горько плакали они над ее маленькой могилкой.
— И вовсе обезьян не хоронят! — заявила неожиданно громко Зина Никольская.
Но все девочки сердито зашикали на нее:
— Как тебе не стыдно! Молчи уж! Несчастный Итальянский король!
Это было прозвище Зины.
И опять сидели тихо, и тихой чередой проходили перед ними дорогие воспоминания и образы любимых людей.
Глава XIV. ТЕТЯ ДУНЯ
Представьте себе женщину, полную, несколько выше среднего роста, с большими живыми карими глазами, с крупным носом и крупными широкими ногами, на которых всегда были надеты ботинки двумя-тремя размерами больше, чем это требовалось по ноге, вследствие чего ботинки загибались, напоминая старинную русскую ладью. Такой именно была тетя Дуня. Она обладала более чем нужно грубым голосом, энергичным характером и стремительными, пожалуй даже резкими, движениями.
Если добавить, что тетя Дуня не лишена была кокетства и до полудня ходила в бумажных папильотках на черных с проседью волосах и с утра надевала корсет, который только увеличивал и без того довольно заметный живот и приподнимал спереди ее платье фасона «реформ», что тетя ходила большим, увесистым шагом, которому мог позавидовать гвардейский солдат, то, пожалуй, это были почти все ее внешние приметы.
Тетя Дуня рано осталась сиротой, грамоте выучилась, только когда ей пошел уже четвертый десяток, и до конца жизни говорила «пармане»[5].
И в детстве и в молодости она не видела ничего, кроме самой крайней, самой горькой нужды, и, не будь у нее таких крепких локтей, вряд ли она задержалась бы на этом свете.
С шести лет она была уже в няньках; потом стирала, шила, готовила обеды и все более убеждалась в том, что если ты не сам за себя, то кто же за тебя?
К счастью, ее доброе, благородное сердце, несмотря на все обиды судьбы, не позволило ей очерстветь, и она всегда помнила и другое изречение восточного мудреца: «Если ты только для себя, то зачем ты?»