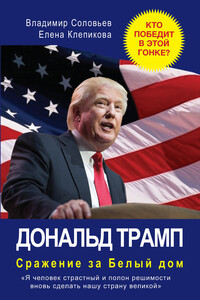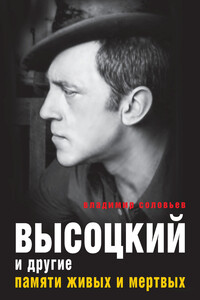США. PRO ET CONTRA. Глазами русских американцев | страница 28
Но вот что странно: в этой своей цельной, без сокращений и искажений, автобиографии Марк Твен как-то не похож на себя, точнее, на того Марка Твена, которого мы знаем (или думаем, что знаем), прочтя подростками «Тома Сойера», «Гекльберри Финна», «Принца и нищего», «Янки при дворе короля Артура» и другие его книги, полные неистощимого веселья, кипучей радости бытия, стойкого оптимизма и несокрушимого доверия к жизни. Именно таким — природным жизнелюбцем, упоенным смехачом и насмешником, солнечным и радостным оптимистом — остался писатель в памяти тех, кто остановился в чтении на его основных шедеврах.
Зато в автобиографии, упрятанной самим писателем от читателя на сотню лет, возникает совершенно иной, незнакомый Марк Твен, утративший иллюзии и растративший оптимизм, угрюмый мизантроп, безотрадный скептик, усомнившийся в прогрессе своей эпохи. Более того — что несколько покоробило ортодоксальных марктвенистов, — писатель в своей новой книге становится на какое-то время бескомпромиссным политиком, резко осуждая «преступные действия» американского правительства, а также с увлечением — гордо, достойно и без всякого юмора — играет роль гневного пророка.
«Только мертвым позволено говорить правду»
Страдающий из-за американских военных интервенций в чужие страны или яростно громящий магнатов с Уолл-стрит, этот Марк Твен на диво современен и актуален. Кажется, он живет не в своем любимом XIX веке, начисто не приемля начальный XX, где его «угораздило отмучиться 10 лет», а в нашем XXI, который тоже вряд ли чем бы его порадовал! Некоторые его наблюдения за американской жизнью настолько беспощадны — однажды Твен называет американских солдат «убийцами в военных мундирах», — что его наследники и редакторы, да и сам писатель, опасались, как бы подобные высказывания, если их немедленно не выбросить из текста, не подорвали всерьез его репутацию.
«Из первого, второго, третьего и четвертого изданий следует выбросить все здравые, дельные и разумные суждения», — наставлял Марк Твен в 1906 году редакторов. «Может, и подвернется рынок для такого товарца через столетие от наших дней. Никакой спешки. Поживем — увидим». А в дневнике, который вел с юности, Марк Твен в 1904 году запечатлел свое беспросветное отчаяние: «Только у мертвых есть свобода слова. Только мертвым дозволено говорить правду. В Америке, как и повсюду: свобода слова — для мертвых».
И эти горькие, безнадежные строки пишет первый писатель Америки с мировой славой, кипучий жизнелюбец, ярый оптимист, неистощимый весельчак и смехач, гордый своей страной, безмятежно верующий в особый удел Нового Света. Давайте вкратце проследим, как произошла в жизни и сознании писателя эта трагическая метаморфоза.