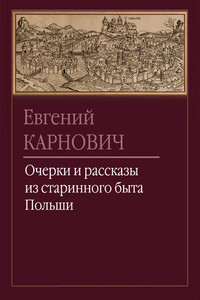Родовые прозвания и титулы в России. Слияние иноземцев с русскими | страница 51
В «Учреждении об Императорской Фамилии» Павел I ввел в императорскую фамилию новый титул — «цесаревич», с тем, чтобы титул этот принадлежал старшему сыну царствующего государя, как будущему его наследнику. Но сам Павел Петрович сделал из этого титула другое употребление: он не предоставил его исключительно старшему своему сыну Александру Павловичу, но пожаловал титул цесаревича, в виде почетной награды за военные подвиги в Швейцарском походе, своему второму сыну, Константину Павловичу, который и носил его до конца своей жизни, так что только по смерти его покойный император Александр Николаевич стал, и 1831 г., носить титул цесаревича, как старший сын и объявленный наследник императора Николая Павловича. Затем титул цесаревича перешел, при вступлении на престол императора Александра II, к старшему сыну его, великому князю Николаю Александровичу, а после его кончины — к ныне царствующему государю императору, а от него уже, по праву первородства, перешел к настоящему государю наследнику, великому князю Николаю Александровичу. Соответственно титулу цесаревича и супруга наследника престола титулуется цесаревною и великою княгинею.
Были примеры пожалования особых титулов и лицам, родственным царствующему дому. Так император Николай Павлович пожаловал титул императорского высочества принцу Петру Георгиевичу Ольденбургскому и титулы князей Романовских и императорского высочества герцогам Лейхтенбергским, имевшим прежде право только на титул светлости.
Так называемого «величанья», а по-западному «предиката», у русских государей и у членов его семейства прежде вовсе не было. По принятии Иваном IV царского титула, государей московских стали именовать царским или пресветлейшим величеством и великим государем; в последнем случае слово «великий» употреблялось в том же смысле, в каком употреблялось оно в былое время при слове князь. Прибавление это казалось необходимым потому, что с исхода XVI века обращение с словом «государь» стало делаться у нас обиходным, и даже крестьяне стали обыкновенно величать своих вотчинников и помещиков государями. В прежнее время в иных случаях русские государи довольствовались титулом «благородие». Следы этого сохранялись и — если мы не ошибаемся — сохраняются и доныне в церковных книгах. Так по «Чиновнику», т. е. по книге, по которой архиерей совершает литургию, он, обращаясь после большого выхода к присутствующему государю, говорил: «Благородие твое да помянет Господь Бог во царствии своем». Величали также в старину русских государей и «милостию», и «благоутроблен» Царю Алексею Михайловичу не только наши повествователи и драматурги, но даже и историки, придают название «Тишайшего», считая такое название его личным прозвищем, но это ошибочно. Когда во второй половине XVII века на Москве стал, благодаря приезду туда наставников, обучавшихся в польских и итальянских училищах, водворяться латинизм, то употреблявшееся на западе величание государей «clemen tissimus» стали переводить по-русски «тишайший». Этот титул давался и царям Феодору и Ивану Алексеевичам, и царевне Софье Алексеевне. Придавался он и царю Петру I, который, конечно, не был из тишайших. Замечательно, что до принятия Петром Великим императорского титула ему в церковном богослужении многолетие возглашалось так: «тишайшему, избранному и почтенному царю и великому князю».